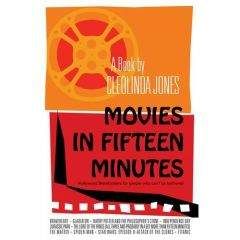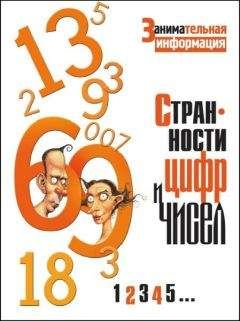Дэвид Лоуренс - Радуга в небе
В бароне Скребенском она увидела человека, каким тот должен быть, он также отнесся к ней с интересом. Но когда они расстались, образ его потускнел, став лишь воспоминанием. Однако воспоминание это продолжало в ней жить.
Анна превратилась в высокого угловатого подростка. Глаза у нее остались прежние — темные, быстрые, но в них появилась рассеянность, враждебная же настороженность исчезла. Буйные, похожие на золотую канитель волосы стали тяжелее, потемнели и были теперь стянуты на затылке. Она училась в женской школе в Ноттингеме и была поглощена желанием стать воспитанной молодой леди. Но развитым интеллектом, равно как и интересом к учению, она не обладала. Поначалу все девочки в школе показались ей крайне воспитанными, похожими на леди и потому прекрасными, и она попыталась им подражать. Однако ее быстро постигло разочарование — девочки огорчали и даже бесили ее своей мелочностью и злобой. После вольной и щедрой атмосферы родного дома, где мелочи вообще не принимались в расчет, вся эта грызня из-за пустяков особенно угнетала.
Она быстро стала другой — научилась не доверять себе и окружающему миру. Пребывать в нем, добиваться в нем успеха ей расхотелось.
— Какое мне дело до всей этой своры! — презрительно говорила она отцу про соучениц. — Они никто и ничто.
Беда была в том, что девочки не захотели принимать Анну такой, какой она была. Либо становись похожей на них, либо будешь отвергнута. Смущенная Анна сначала соблазнилась и какое-то время следовала их жизненным правилам, но быстро вознегодовала и стала их пылко ненавидеть.
— Почему ты не пригласишь кого-нибудь из девочек к нам в гости? — говорил отец.
— Они нам не подходят.
— Почему же?
— Они свиристелки, — отвечала она, — пустышки, багатель. — Последнее было материнским словечком.
— Багатель или там не багатель, не знаю, но по-моему, вполне милые барышни.
Но переспорить Анну было трудно. Банальности, безликости в людях, особенно в современных барышнях, она на дух не переносила — почуяв ее, она странным образом съеживалась, замыкалась в себе. Анна стала необщительной, потому что с людьми теперь конфузилась, никак не могла решить, чья это вина — ее или других. Она не слишком уважала этих других, и постоянные разочарования ее только злили. Но она хотела бы уважать людей. Поэтому ее привлекали незнакомые — они казались ей замечательными. Те же, кого она знала, стесняли ее, как бы опутывая лживыми мелочами, что ее бесконечно раздражало. Уж лучше сидеть дома, укрывшись от остального мира, приобретавшего тогда черты иллюзорности.
Ведь чего-чего, а свободы и раздолья на ферме было предостаточно. Обитатели ее над деньгами не тряслись, не скупились, не жались, не оглядывались на чужое мнение, потому что ни мистер, ни миссис Брэнгуэн толком этого мнения и не знали, так уединенна была их жизнь.
И Анне хорошо было только дома, где здравый смысл и высокое чувство супружеской любви определяли весь строй жизни, создавая уклад, совершенно отличный от того, что Анна видела вокруг: где, скажите на милость, кроме фермы Марш, могла бы она найти ту полную достоинства терпимость, в традициях которой была воспитана? Гордость и самоуважение родителей не колебало ничье неведомое им осуждение. Посторонние же, с которыми Анна сталкивалась, казалось, жалели для нее самый воздух и только и норовили ее унизить. Находиться среди них для нее было мукой. И она предпочитала держаться отца и матери. И все же мир вокруг манил ее.
В школе и вообще вне дома она вечно попадала впросак и постоянно чувствовала себя каким-то изгоем, никогда точно не зная, кто прав — тот, кто ее осуждает, или же все-таки она. Уроков она не готовила: не видела необходимости их готовить, когда не хочется. Зачем, ради чего? Может быть, в этом есть какой-то высший смысл? Может, все эти люди, эти школьные наставницы представляют некий тайный орден, воплощают недосягаемую добродетель? По крайней мере, казалось, что сами они думают именно так. Но Анна, хоть убей, не могла взять в толк, почему ее надо дразнить и оскорблять, если она не знает наизусть тридцати строк из «Как вам это понравится». В конце концов, не все ли равно, знает она эти строки или не знает? Никто ее не убедит, будто это имеет хоть малейшее значение. Потому что грубую натуру учительницы она в глубине души презирала. И это приводило к конфликтам с начальством. Постоянные замечания и одергивания почти убедили Анну в собственной порочности, изначальной ущербности. Она уже готова была поверить, будто единственное законное ее место — у позорного столба и стояние там — это то, чего все от нее ожидают. И все же она бунтовала. До конца уверовать в свою порочность она так и не смогла. В глубине души людей, досаждавших ей своими придирками и поднимавших шум из-за пустяков, она презирала и призывала мщение на их головы. Она ненавидела их за то насилие, которое они над ней совершали.
Но свой идеал она хранила: свободная, гордая леди, скинувшая с себя путы мелочности и недосягаемая для суда мелких людей. Она видела изображения таких леди: Александра, принцесса Уэльская, служила для нее одним из образцов. Эта леди была горда, по-королевски величественна и умела переступить через все мелкое и злобное — так в глубине души считала Анна. И девочка делала высокую прическу и придавливала ее маленькой шляпкой чуть набекрень, юбки ее по моде были присборены, а элегантное пальто сидело как влитое.
Отцу это нравилось — такая гордая осанка, такое естественное равнодушие к мелким условностям, в которых погряз Илкестон, так жаждавший ее унизить, поставить на место. Самому Брэнгуэну подобное желание было чуждо: хочет выглядеть королевой — пусть! И он, воздвигшись, как скала, между ней и миром, отгораживал ее от людской злобы.
С годами он, как и все Брэнгуэны, пополнел, похорошел. В голубых глазах мелькал чуткий огонек понимания, держался он степенно, но радушно и доброжелательно. Его умение жить своей жизнью без оглядки на соседей снискало ему их уважение. Они всегда готовы были ему услужить. Не слишком с ними считаясь, он был неизменно щедр, так что услужливость оборачивалась для них выгодой. Людей он любил, пока они маячили где-то в отдалении.
Миссис Брэнгуэн жила по-своему и согласно своим привычкам. У нее были муж, двое сыновей и Анна. Это очерчивало и определяло ее горизонт. Все другие являлись посторонними. Внутри этого замкнутого мирка и протекала туманной грезой ее жизнь, постепенно иссякая вместе с нею, и она плыла в этом потоке, деятельная, бдительная, всегда благодушная. Жизнь внешнюю она почти не воспринимала, внешнее — оно и было внешним, словно и не существовало никогда. На драки мальчиков она не обращала внимания — лишь бы это было не в ее присутствии. Вот когда они дрались при ней, она сердилась, а этого они всегда боялась. Ее не волновали разбитое окошко вагона или продажа часов для кутежа на гусиной ярмарке. Брэнгуэн, тот мог сердиться на подобные проступки. Матери они казались незначительными. Возмущали ее вещи странные. Она была вне себя, если заставала сына шатающимся возле бойни, недовольно хмурилась, если в школьных табелях видела плохие отметки. Мальчиков могли обвинять бог знает в каких грехах — она пропускала это мимо ушей, лишь бы они не были глупы или хуже других. Вот терпеть оскорбления им строго возбранялось. Что же касается Анны, то раздражала в ней мать лишь некоторая gaucherie, деревенская, простоватая неуклюжесть. Когда мать видела проявления грубости, неотесанности, толстокожести, глаза ее загорались странным гневом. В другое же время она была благодушна и безразлична.
Стремясь к своему идеалу шикарной леди, Анна превратилась в высокомерную шестнадцатилетнюю барышню, не прощавшую домашним их недостатков. Постоянно приглядываясь к отцу, она всегда знала, когда он выпил, даже если внешне это и не было очень заметно, а пьяным она его не выносила. Выпив, он краснел, на висках проступали жилы, глаза загорались бешеной веселостью, он становился развязен, шумен и игрив. Это ее сердило. Первая же громогласная шутка вызывала ее бешеную ярость. И она мгновенно осаживала его, едва он входил в дом.
— Ну у тебя и вид! Лицо красное, как кумач! — восклицала она.
— Будь оно зеленое, вид был бы хуже, — отвечал он.
— Надрался в этом Илкестоне!
— Чем же Илкестон тебе не угодил?
Она бросалась вон из комнаты. Возмущение дочери забавляло его, и он провожал ее веселым взглядом, но все же невольно досадуя на ее пренебрежительный тон.
Странной они были семьей — жили замкнуто, обособясь от остального мира и по собственным законам — маленькая республика, отделенная невидимыми границами. Мать оставляли равнодушной Илкестон с Коссетеем, равно как и все притязания на нее внешнего мира посторонних она стеснялась, хотя и была с ними очень любезна и могла даже чаровать гостей. Но стоило гостю ступить за порог, и она со смехом забывала о нем: конечно, он переставал существовать для нее. Оказывается, она лишь играла роль гостеприимной хозяйки, эта иностранка, в глубине души не уверенная в прочности своего положения. Но в обществе своих детей и мужа она могла чувствовать себя полновластной хозяйкой куска земли, сочившейся изобилием.