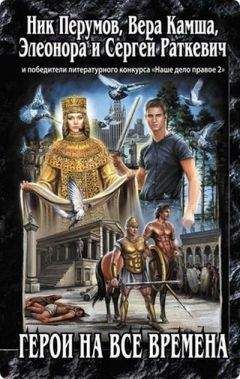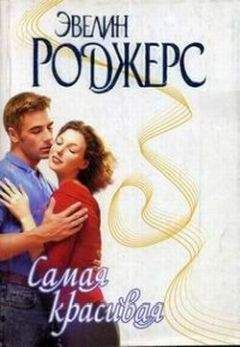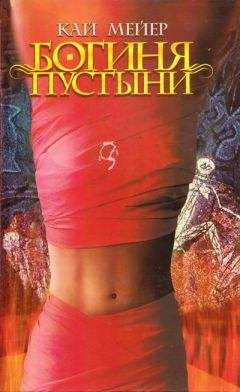Луи Мари Энн Куперус - Ксеркс
ибо Геракл был весьма волосат — и на спине и ниже. После чего герой расхохотался ещё громче, чем оба проказника, и отпустил их домой.
Когда ветер дует здесь между скал, он как будто бы доносит до слуха этот смех, прозвучавший тут в незапамятные дни. Однако далее ландшафт делается суровее. Скалы становятся как бы ещё более священными, а море — ещё более божественным, как если бы местность эта была заранее обречена на величие, и именно по этой причине её обороняли несколько тысяч эллинов, собравшихся вокруг Леонида.
Глава 20
Леонид! Вот человек, говоря о котором история начисто забывает об иронии. Насмешка не смеет коснуться его, ибо в юном, простом и прекрасном мире расцветающей Эллады он был героем, образцом, едва ли не полубогом среди смертных. Окружающая Леонида история преобразилась в миф. Леонид! Он и в самом деле был таким, каким представляют его нашим глазам древние анналы, — молодым, благородным, белокурым царём Спарты. Род его восходил к Гераклу и сыну героя Гиллу. И своей светлой атлетической красотой царь — этот человек из рода полубогов и героев — напоминал самого Геракла в дни сто юности, но ещё более он походил на Гилла. Более того, Леонид был похож сразу на всех светловолосых героев многочисленных мифов: Мелеагра, сразившего калидонского вепря; Беллерофонта, покорителя Пегаса; Персея, снёсшего с плеч Медузы её змееволосую голову; Тезея, убийцу Минотавра; Ясона, добывшего золотое руно…
Лишь он один среди всех них был потомком Геракла, однако светлая сила и красота делали царя Спарты похожим на величайших героев всех мифов сразу. Между ними не было разницы. В Леониде миф сохранил свою историчность, в нём история сделалась мифом. Всё божественное, что есть в человеке, в Леониде из мечты и снов преобразилось в реальность, а то человеческое, что ещё можно обнаружить в самой возвышенной божественности, сделалось историческим идеалом, прекрасным, словно античная статуя. Ни один поэт не мог бы придумать героя более обаятельного, чем Леонид, царь Спарты.
В истории, которая, обращаясь к нему лицом, утрачивает всяческую ироничность, он остаётся образцом для всех. Он сверкает в прошлом — светом мраморного изваяния его славы. История посмеивается над Ксерксом. Ксеркс занесён ею в список комических персонажей. Но история даже не думает улыбнуться, глядя на Леонида. Всякий раз, когда произносится его имя, на лицо истории наплывает выражение материнское, полное благодарной гордости, черты её становятся чертами скорбной и величественной в своём горе богини, а из божественных глаз сей науки выкатываются две крупных жемчужных слёзы.
Леонид! Ну, кто из нас в свои мальчишеские годы не лицезрел его во всей красе, впервые услышав это царственное и мелодичное имя, впервые увидев перед собой его мраморное изваяние? На нём почиет слава наших молодых дней. Как никто другой пробуждал он наше юношеское восхищение.
Возможно, это объясняется тем, что он был столь возвышенно красив, сказочно белокур, дивно силён, божественно сложен и словно светился тем золотым светом, которым бог солнца озаряет скалистые утёсы Фермопил, разбрасывающие по земле грозные тени, а ещё тем, что он исчез в этих грозных тенях — так бог солнца неминуемо исчезает в ночи, совершив своё героическое деяние.
Любовь и истина заставляют меня называть Леонида, светлого царя Спарты, героем подлинного, исторического дня, относя героев Гомера к полумифической-полуисторической заре Древнего Илиона. Леонид! Я люблю его больше, чем Ахилла, которого тем не менее тоже люблю, и больше, чем Гектора, которого люблю больше Ахилла. Леонид! Я по-прежнему почитаю его и, хотя вспоминаю царя Спарты на страницах своего иронического повествования, не смею повернуться к нему с улыбкой, как в сторону Ксеркса… Имя царя Спарты всякий раз сходит с моих уст с восхищением и любовью, а рука и перо моё венчают его лаврами.
Глава 21
В то утро Ксеркс отправил всадника вверх по склону, чтобы он разыскал таинственные ворота, за которыми находятся тёплые купальни. Посланец царя, ждавший в такой глуши опасности и справа и слева, предоставил коню самому находить дорогу между дубами и кустарниками вверх к подножиям скал. Персы — великие конники. И посланный царём Бессмертный был великолепным всадником, а лошадь его прекрасно знала, куда можно ставить копыто. Оставшийся внизу Ксеркс с трона — а как же иначе! — смотрел в спину своему посланцу. На фоне синего неба фигура его рисовалась неким подобием изваяния, отлитого из бронзы или золота. Наконец Ксеркс заметил, что лазутчик его едет вдоль гребня горы, не обращая внимания на разверзнувшуюся у ног пропасть.
Сей светлый всадник, столь ослепительно рисовавшийся на синих высотах — и, возможно, уже находившийся в пределах полёта спартанской стрелы, — глядел вниз. И был он весьма удивлён. А точнее, он не верил своим глазам. Весь горный проход казался заброшенным. Лишь вдалеке — там, где скалы расходились шире всего, — белели палатки, обступившие шатёр, их насчитывалось около тысячи. А перед шатром, на камне, сидел муж в позе размышляющего Ахиллеса. Одна нога его была закинута на другую, ладонь упиралась в подбородок. Голова сего мужа поникла в глубокой задумчивости. Из-под шлема выбивались золотые волосы, шелковистые кудри эти ложились на могучую неприкрытую шею, выраставшую из ярко блиставшего панциря. Полуобнажённые руки и ноги являли благородную, атлетическую, истинно героическую мускулатуру, приличествующую юной и царственной мужественности.
«Должно быть, это и есть Леонид, — подумал персидский всадник, — царь Спарты, потомок Геракла, величайшего героя Эллады, Леонид, о котором уже слыхал каждый воин персидских ратей».
Всадник разглядывал Леонида с недоумением. Царь Спарты не восседал на троне, подобно Царю Царей. Сидел он на простой каменной глыбе. И вокруг не было ни телохранителей-Бессмертных, ни полководцев, ни зятьев, ни братьев, ни племянников. Царь Спарты сидел на камне самым примитивным образом и размышлял. Подбородок его упирался в ладонь, одна могучая нога непринуждённо покоилась на другой. Персидский всадник никогда бы не заподозрил, что перед ним находится царь, хотя бы даже и царь Спарты.
Но, поглядев ещё дальше, вперёд, перс изумился ещё более. В расщелине находилось не более четырёх тысяч человек. Рассыпавшись вдоль длинного ущелья, они находились в прекрасном расположении духа. Одни бросали копья, другие метали диск, третьи состязались в беге. Весёлый хохот гулко гулял по лесу. Но более всего потрясло перса то, что многие из находившихся перед ним мужей просто расчёсывали волосы, ниспадавшие кудрями на широкие плечи, словно бы приготовляясь к праздничному пиршеству.
Перс не знал, что перед битвой лакедемоняне всегда приводят причёску в порядок. Он не знал о том, что, по словам Ликурга[55], длинные волосы подчёркивают мужскую красоту, но они же делают мужское уродство ещё более отвратительным. Словом, персидский всадник был весьма удивлён.
А потом Леонид поглядел вверх и заметил перса, всадника, сверкавшего доспехами на вершине скалистого гребня, быть может, в пределах полёта стрелы.
С минуту Леонид пристально рассматривал врага, который, будучи отважным персом, тем не менее был испуган, хотя и не давал воли коню. А затем Леонид вновь равнодушно опустил взор к земле, не прерывая размышлений и пребывая в позе Ахиллеса, думающего думу перед шатром; нога закинута на ногу, подбородок опёрт на ладонь.
Перса заметили и другие спартанцы. На него посмотрели, показали пальцем, посмеялись, а потом лакедемоняне вернулись к своим заботам — дискам и копьям — или же к гребням.
Персидский всадник взирал на них с великим недоумением. Если не считать этой горстки людей, в Фермопильском проходе, на пути в несколько миллиариев[56] длиной, не было никакого войска.
Глава 22
Вернувшись в свой стан, персидский всадник подъехал к ожидавшему его Ксерксу и доложил о результатах своей разведки Царю Царей и обступившим его полководцам. Все они закатились смехом. Ксеркс осведомился, отчётливо ли видел он греков с такой высоты. Мог ли он быть уверен в том, что лицезрел именно Леонида? И не придумал ли всю повесть о гребнях просто потому, что не видел совсем ничего? Несколько придя в себя после приступа царственного хохота, Ксеркс послал за Демаратом, сыном Аристона, с которым консультировался на террасе крепости Дориска. Демарат явился без промедления, и Ксеркс заговорил, милостивым жестом царской длани предложив благородному изгнаннику сесть. На сей раз Демарат не мог усесться даже у ног Ксеркса, поскольку тот восседал на походном троне с узкой приступкой.
— Демарат! Почему эти лакедемоняне, засевшие возле Фермопил, ведут себя так странно, если словам разведчика можно верить?