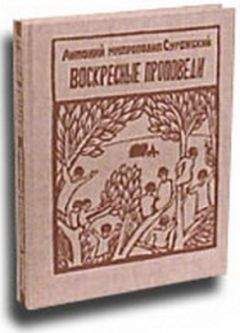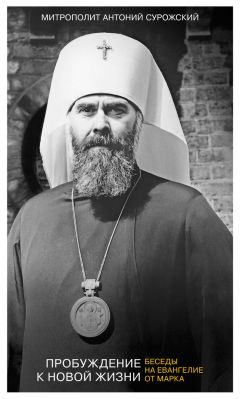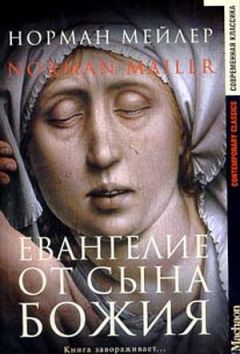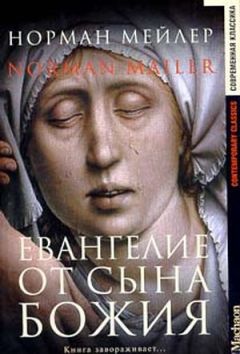Дэвид Митчелл - Тысяча осеней Якоба де Зута
Якобу приходит на ум сын из сна. Китайская джонка с надутыми парусами величественно плывет по бухте.
— Он клялся, что законные наследники Тео должны иметь «первосортных» матерей: белокожих, с розовыми щечками, красоток протестантской Европы, потому что по всем семейным древам невест, рожденных в Батавии, прыгали орангутанги. Увы, все его предыдущие жены уходили на тот свет через несколько месяцев после прибытия на Яву. Как видно, ядовитые испарения гробили их. Но Тео был очаровательным кобелем и богатым очаровательным кобелем, и, когда пришло время отплытия, выяснилось, что между моей каютой и каютой дяди на «Энкхэйзене» поселится новоиспеченная миссис Тео ван Клиф. Моя «тетя Глория» была моложе меня на четыре года, и ее возраст составлял треть от возраста ее гордого супруга…
Внизу продавец риса открывает магазин.
— Как можно описать красоту этого цветка? Она заткнула за пояс всех этих шлюх бородатых набобов, которые плыли на «Энкхэйзене», и, прежде чем мы обогнули Британию, все достойные мужчины — и много не очень достойных — уделяли тете Глории больше внимания, чем хотелось новому мужу. Сквозь тонкую стенку каюты я слышал, как он выговаривал ей за то, что она слишком откровенно переглядывалась с господином А или очень громко смеялась над глупой шуткой господина Б. Она соглашалась и каялась, кроткая, как олениха, и затем позволяла ему исполнить его супружеские обязанности. Мое воображение, де Зут, работало лучше всяких подглядываний! После этого дядя Тео уходил в свою каюту, а Глория плакала, так нежно, так тихо, что никто не мог этого услышать. У нее не было возможности отказать мужу, конечно же, и Тео позволил ей взять лишь одну молодую служанку по имени Аагзе: койка во втором классе стоила столько же, что и пять служанок на батавском рынке рабов. Глория, нужно вам сказать, до этого редко покидала пределы Амстердама. Ява была для нее — как луна. Еще дальше, потому что луна, по крайней мере, хотя бы видна в Амстердаме. Наступай, утро, я буду добрым к моей тете…
В саду женщины развешивают постиранное белье на можжевеловом дереве.
— «Энкхэйзен» изрядно потрепало в Атлантике, — продолжает ван Клиф, выливая последние освещенные солнцем капли пива на язык, — и капитан решил остановиться на месяц в Кейпе, чтобы провести необходимые ремонтные работы. Дядя Тео, дабы укрыть Глорию от посторонних глаз, снял жилье на вилле сестер ден Оттер, повыше Кейптауна, между Львиной Головой и Сигнал- Хиллом. Шестимильная дорога до виллы превращалась в болото в мокрую погоду и изобиловала выбоинами в сухую. Когда‑то, давным — давно, ден Оттеры по праву считались одним из самых богатых семейств, но в конце семидесятых знаменитая лепнина дома осыпалась кусками, сады завоевала африканская растительность, а штат слуг с двадцати — тридцати человек сократился до экономки, повара, приходящей служанки и двух седобородых чернокожих садовников, которые откликались на прозвище Бой. У сестер даже не осталось своей кареты, и они посылали за ней к соседям, а большинство их предложений начинались словами «при жизни папы» или «когда шведский посол заезжал к нам». Там царила смертная скука, де Зут, смертная! Но молодая фрау ван Клиф знала, что хотел услышать ее муж, и заявила, что эта вилла — идеальное для них место, уединенное, безопасное, да еще и в волшебном готическом стиле. Сестры ден Оттер показали себя «неисчерпаемым кладезем ума и поучительных историй». Наши хозяйки оказались беззащитными перед ее льстивой похвальбой, и она угодила дяде Тео и крепким здоровьем… и светлым умом… и красотой. Она притянула меня к себе, де Зут. Глория была любовью. Любовь была Глорией.
Маленькая девочка прыгает, словно тощая лягушка, вокруг хурмы.
«Я скучаю по детям», — думает Якоб и переводит взгляд на Дэдзиму.
— В нашу первую неделю на вилле, в зарослях разросшегося агапантуса[91], Глория нашла меня и попросила пойти к дяде и передать ему, что она флиртовала со мной. Я не ослышался? Она повторила свое указание: «Если вы мой друг, Мельхиор, и я молю Бога, что это так, и у меня нет никого ближе в этой глуши, то пойдите к моему мужу и скажите ему, что я призналась в «неподобающих чувствах»! Используйте эти самые слова, как свои собственные». Я протестовал, говоря, что ни за что не опорочу ее честь и не навлеку на нее опасность физической расправы. Она убедила меня, что ее точно побьют, если я не сделаю так, как она просит, или расскажу своему дяде об этом разговоре. Ну, заросли заливал оранжевый свет, и она сжала мою руку и попросила: «Сделайте это для меня, Мельхиор». И я сделал.
Клубы дыма вырываются из трубы «Дома Глициний».
— Когда дядя Тео услышал мое лживое признание, он согласился с моим милосердным предположением о нервах, вконец расшатанных долгой дорогой. Я пошел, весь в замешательстве, пешком к скалистым утесам, боясь услышать, что пришлось вынести Глории на вилле. Но за обедом дядя Тео произнес речь о семье, послушании и доверии. После молитвы он поблагодарил Бога за то, что Он послал ему жену и племянника, которые чтут христианские ценности. Сестры ден Оттер постучали ложками с изображениями апостолов о бокалы с бренди и произнесли: «Правильно! Правильно!» Дядя Тео дал мне мешочек гиней и предложил поехать в город и пару дней наслаждаться всеми радостями жизни в таверне «Два океана»…
Мужчина выходит из боковой двери борделя. «Он — это я», — думает Якоб.
— …но я бы, скорее, сломал себе ногу, чем предпочел находиться вдали от Глории. Я предложил моему благодетелю оставить гинеи себе, попросил оставить мне только пустой мешочек с пожеланием, чтобы я заполнил его, и еще десять тысяч других, плодами своего труда. Вся мишура Кейптауна, заявил я, не стоила часа пребывания в компании с дядей, и, если позволяет время, не согласился бы он на партию в шахматы? Дядя замолчал, и я начал бояться, что пересластил чай, но потом он заявил, что большинство нынешних молодых людей предпочитает бездельничать, считая себя в полном праве растратить тяжело добытое богатство родителей, но небеса послали ему исключение в виде племянника. Он провозгласил тост в честь прекрасного племянника, истинного христианина, и предложил забыть о неловкой проверке супружеской верности «настоящей жены». Он предрек, что они с Глорией будут растить будущих сыновей, помня обо мне, и его настоящая жена сказала: «Пусть по образу они будут походить на нашего племянника, муж». Тео и я потом сыграли в шахматы, и, чтобы до конца казаться искренним, де Зут, я позволил глупцу обыграть меня.
Пчела жужжит у лица Якоба и улетает прочь.
— Моя честность и честность Глории прошли проверку и теперь не вызывали сомнений, поэтому мой дядя решил, что пора бы и ему познакомиться со светским обществом Кейптауна. Он уезжал с виллы практически на весь день, а иногда даже оставался в городе на ночь. Мне он тоже нашел работу: переписывать бумаги в библиотеке. «Я бы пригласил тебя со мной, — говорил он, — но я хочу, чтобы всякие черные знали, что на вилле находится белый человек, который не побоится пустить в ход пистоль или мушкет». Глории оставались книги, дневник, сад и «поучительные истории» сестер: у дам их запас обычно иссякал к трем часам дня, когда бренди, выпитый за ленчем, погружал их в крепкий и долгий сон…
Бутылка ван Клифа скатывается по черепице, проскальзывает между кустов глицинии и разбивается во дворе.
— От библиотеки к спальне новобрачных вел коридор без единого окна. Сконцентрироваться на бумагах в тот день, признаюсь честно, не получалось. Библиотечные часы, как помню я сейчас, стояли. Возможно, закончился завод. Иволги пели, как сумасшедшие, и тут я слышу щелчок замка… повисает тишина… словно кто- то чего‑то ждет… и вот она — силуэт в далеком конце. Она… — ван Клиф трет загорелое, обветренное лицо. — Я боялся, что Аагзе застукает нас, а она говорит: «Разве ты не заметил, что Аагзе влюблена в старшего сына нашего соседа — фермера?» С моих губ самым естественным образом сорвалось: «Я люблю тебя», и она целует меня, и говорит, что теперь терпеть присутствие дяди будет легче, представляя себе, что он — это я, и все его — мое, и я спрашиваю: «А если ребенок?» — а она останавливает меня: «Ш — ш-ш…»
Бурый, словно выпачканный в грязи, пес бежит по грязно — коричневой улице.
— Нашим несчастливым числом стало четыре. Когда мы с Глорией улеглись в постель в четвертый раз, лошадь дяди Тео сбросила его на землю по пути в Кейптаун. Он поковылял назад на виллу, и поэтому мы не услышали цоканья копыт. В один момент — я глубоко в Глории, совершенно голый, а в следующий — по — прежнему совершенно голый, лежу среди обломков зеркала, разбитого об меня моим дядей. Он сказал, что свернет мне шею и выбросит тело зверям. Он сказал, чтобы я ушел в город, взял пятьдесят гульденов у его агента и сказался слишком больным для посадки на «Энкхэйзен», когда подойдет час отплытия в Батавию. Напоследок он поклялся выковырять все, что я заложил внутрь этой шлюхи, его жены, обычной ложкой. К моему стыду — а может, я этого и не стыдился, не знаю, — я ушел, не попрощавшись с Глорией. — Ван Клиф чешет бороду.