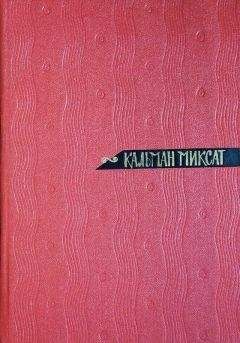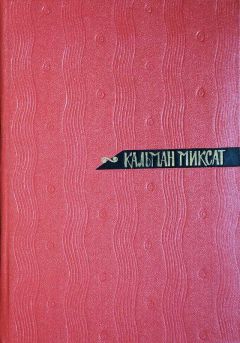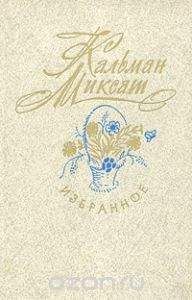Бенито Гальдос - Двор Карла IV. Сарагоса
Потом он закричал проходившим мимо людям:
— Эй, земляк, дружище, добрый человек, как бы нам поднять вон ту балку, что упала в угол?.. Эй, добрые люди, оставьте на минуточку умирающего, которого несете в лазарет, и подойдите сюда, помогите мне. Неужели здесь не найдется ни одной сострадательной души? У вас каменные сердца, что ли? Ну, погодите, безжалостные сарагосцы, бог вас еще накажет!
Видя, что никто не собирается ему помогать, он снова вошел в дом, но вскоре выбежал оттуда с отчаянным воплем:
— Спасти уже ничего нельзя — все горит! Пресвятая дева Пилар, почему ты не сотворишь чуда? Отчего ты не наделишь меня тем же даром, что и трех юношей в пещи вавилонской, чтобы я мог войти в огонь и спасти свои бумаги?
XXV
Затем Кандьола сел на груду камней и, не выпуская петуха, стал то бить себя по голове, то с глубокими вздохами прижимать руку к груди. Я снова спросил его о дочери, надеясь таким способом разузнать что-нибудь об Агустине, и он мне ответил:
— Я был в доме на улице Аньон, где мы вчера устроились. Все нас уверяли, что там небезопасно и что лучше всего нам перебраться в центр города, но я не люблю ходить туда, куда идут все, — я предпочитаю то место, откуда все уходят. Всюду полно воров и жуликов, и поэтому лучше держаться подальше от толпы. Мы поместились в комнате на нижнем этаже этого дома. Моя дочь очень боялась обстрела и все порывалась выйти на улицу. Когда в соседних домах взорвались мины, они с Гедитой в ужасе убежали. Я остался один, размышляя об опасности, которой подвергались мои вещи, как вдруг вошли солдаты с зажженными факелами и сказали, что сейчас подожгут дом. Эти подлые канальи даже не дали мне времени собрать добро и не посочувствовали моей беде, а лишь насмехались надо мною. Я спрятал шкатулку с расписками, боясь, что они подумают, будто она набита деньгами, и отнимут ее у меня; но я не мог там долго оставаться. Пламя обжигало меня, и я задыхался от дыма. Несмотря на все, я пытался спасти шкатулку… бесполезно! Мне пришлось убежать, и я нечего не сумел вынести, о, боже всемогущий, ну ровным счетом ничего, кроме вот этой жалкой птицы, забытой хозяевами в курятнике! А сколько труда мне стоило поймать ее! Я чуть не сжег себе руку. Проклятье тому, кто выдумал огонь! Велико удовольствие терять свое состояние по прихоти этих горе-героев! У меня в Сарагосе два дома, не считая того, в котором я жил сам. Один из них, тот, что на улице Сомбра, стоит целехонький, хоть и без жильцов. А второй, который прозван «домом Привидений», тот, что позади церкви Сан-Франсиско, занят войсками, и они совсем его разрушили. От него остались одни развалины, сплошные руины! Что за нелепая мысль сжигать дома лишь для того, чтобы французы не захватили их!
— К этому вынуждает война, — пояснил я ему. — Ваш героический город решил защищаться до последней возможности.
— А что выгадает Сарагоса от этой защиты до последней возможности? Что, например, приобрели от этого мертвецы? Попробуйте потолкуйте с ними теперь о славе, героизме и прочей чепухе. Хватит с меня героических городов! Чем жить в них, я лучше уйду в пустыню. Допускаю, что иногда стоит сопротивляться, но не до таких же варварских пределов! Правда, эти здания стоили совсем немного, меньше, чем кучи угля, оставшиеся теперь от них. Нет, меня на мякине не проведешь. Всю затею с осадой выдумали городские тузы, чтобы потом погреть руки на этом угольке.
Я рассмеялся. Пусть читатель не думает, что я пре увеличиваю: я лишь слово в слово повторяю то, что он говорил, и мою правдивость могут удостоверить люди, имевшие несчастье знать его. Живи Кандьола в Нумансии, он заявил бы, что нумансийцы были торговцы углем, строившие из себя героев.
— Я погиб, я разорен вконец! — добавил он и скорбно скрестил руки. — Расписки были важной частью моего состояния. Попробуйте-ка теперь взыскать денежки безо всякого документа, тем более что почти все должники погибли, а тела их лежат на улицах и гниют! Нет, я не перестану повторять, что все содеянное этими негодяями противно законам божеским. Дать себя убить, когда за тобой остались долги и кредитор не сможет получить их, — это же смертный грех, непростительное преступление! Конечно, расплачиваться — дело нелегкое; кое-кто прямо говорит: «Пусть умру, зато деньги при мне останутся». Господь должен быть неумолим к этим воинственным канальям — пусть в наказание за подлость он воскресит их, чтобы они угодили в руки альгвасилу и нотариусу. Отче наш, воскреси их! Пресвятая дева Пилар, святой Домингито Дель Валь, воскресите их!
— А ваша дочь не пострадала от пожара? — спросил я.
— Не напоминайте мне о дочери! — раздраженно ответил он. — Это за ее грехи бог карает меня. Теперь я знаю, кто ее бесчестный соблазнитель. Кем же ему быть, как не сыном этого проклятого дона Хосе де Монторья, тем самым, что собирался стать священником! Мария сама мне во всем признались. Вчера она перевязывала ему рану на руке. Второй такой бесстыдницы свет не видел! И она делала это при мне.
В эту минуту появилась донья Гедита, с трудом отыскавшая хозяина: она принесла ему в миске немного еды. Он с жадностью съел все, и после долгих уговоров нам удалось увести его с пожарища; мы направились с ним на улицу Органо, где в одном из подвалов вместе с другими несчастными женщинами нашла себе прибежище и его дочь. Кандьола, выбранив свое чадо, проследовал с экономкой в дом.
— Где Агустин? — спросил я Марикилью.
— Только что был здесь, но ему сообщили о смерти брата, и он ушел. Я слышала, что его семья находится сейчас на улице Руфас.
— Как! Погиб его старший брат?
— Так ему сказали, и он побежал к своим, не помня себя от горя.
Не слушая больше ничего, я тоже бросился по улице Парра, чтобы хоть чем-нибудь помочь в несчастье этой великодушной семье, которой был так обязан; по дороге я встретил дона Роке, и он со слезами на глазах остановился поговорить со мною.
— Габриэль, — сказал он, — бог призвал к себе нынче нашего доброго друга.
— Умер Мануэль, старший сын Монторьи?
— Да, но это не единственное горе в семье. Ты же знаешь, Мануэль был женат и у него был сынишка четырех лет. Видишь вон там женщин? Среди них жена несчастного первенца семьи Монторья, а на руках у ней дитя, которое в муках умирает от эпидемии. Какой страшный удар! Одно из лучших семейств Сарагосы, и дошло до такого плачевного состояния — ни крова над головой, ни самого необходимого! Несчастная мать с больным ребенком на руках провела всю ночь на улице под открытым небом, а ведь он при смерти. Впрочем, здесь все-таки лучше, чем в зловонных подвалах, где и дышать-то нечем. Хорошо еще, что я и другие друзья дома помогали ей по возможности, да ведь много ли сделаешь, когда хлеба почти нет, вино кончилось, а куска говядины не достанешь даже за кусок собственного мяса?
Светало. Я подошел к группе горожанок и увидел потрясающую сцену. Мать вместе с несколькими женщинами старалась спасти умирающего ребенка, и каждая на свой лад врачевала его, но они лишь мучили несчастного младенца напрасными заботами: стоило взглянуть на их невольную жертву, и сразу становилось ясно, что спасти это создание, за которое смерть уже ухватилась своей костлявой рукой, было невозможно.
Тут я услышал голос дона Хосе до Монторья. Это заставило меня двинуться дальше, и на углу улицы Руфас я стал свидетелем еще одного из страшных бедствий, которые обрушились на семью славного сарагосца. На земле лежал труп Мануэля Монторьи, молодого человека лет тридцати, при жизни не менее приятного и великодушного, чем отец и брат. Пуля пробила ему голову, и с той стороны, где она вошла, из маленькой ранки еще текла струйка крови; она спускалась по виску, щеке, шее и уходила под рубаху. Других следов смерти на теле не было.
Когда я подошел к ним, мать Мануэля все еще никак не могла поверить в смерть сына и, положив его голову к себе на колени, пыталась страстными мольбами вернуть своего первенца к жизни. Монторья стоял на коленях справа от трупа и, сжимая в ладонях руку сына, неотрывно и молча смотрел на него. Отец убитого был сам бледен как мертвец, но не плакал.
— Жена, — сказал он наконец, — не проси господа о невозможном. Нашего Мануэля больше нет.
— Нет, он не умер! — в отчаянье вскрикнула мать. — Это ложь. Зачем меня обманывать? Не может быть, чтобы бог отнял у нас нашего сына! Чем мы заслужили такую кару? Мануэль, дитя мое, почему ты не отвечаешь? Почему не двигаешься? Почему молчишь?.. Сейчас мы отнесем тебя домой… Но где наш дом? Мой сынок простудится — ему нельзя лежать на голой земле. Вы же видите, у него и руки и лицо совсем застыли!
— Уходи, жена, — сказал Монторья, сдерживая рыдания. — Мы позаботимся о несчастном Мануэле.
— Господи, боже мой, — воскликнула мать. — Что с моим сыном? Почему он молчит? Почему он неподвижен и не просыпается? Он не дышит, но он не мертв, он не может умереть. Пресвятая дева Пилар! Ведь это неправда что мой сын умер?