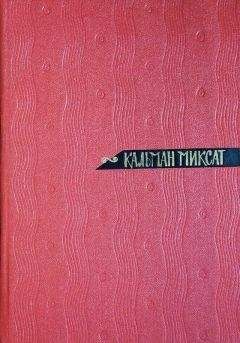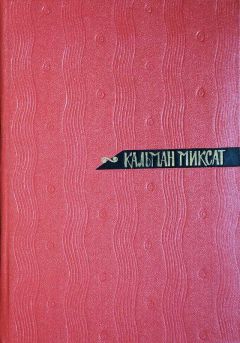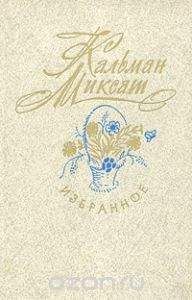Бенито Гальдос - Двор Карла IV. Сарагоса
— Уходи, жена, — сказал Монторья, сдерживая рыдания. — Мы позаботимся о несчастном Мануэле.
— Господи, боже мой, — воскликнула мать. — Что с моим сыном? Почему он молчит? Почему он неподвижен и не просыпается? Он не дышит, но он не мертв, он не может умереть. Пресвятая дева Пилар! Ведь это неправда что мой сын умер?
— Леокадия, уходи отсюда, бога ради, уходи! — повторил Монторья, смахивая слезы, сильно теперь брызнувшие у него из глаз. — Примирись со своей участью, ибо господь уготовил нам тяжкое испытание и сына нашего больше нет в живых. Он умер за отчизну…
— Что? Мой сын умер? — вскрикнула мать и сжала труп в своих объятиях словно его хотели отнять у нее. — Нет! Нет! Что мне отчизна: Верните мне моего сына! Мануэль, дитя мое, не покидай меня. Тебя не вырвут из моих рук, пока я жива.
— Господи, боже мой! Пресвятая дева Пилар! — глухо сказал дон Хосе де Монторья. — Никогда я вольно или невольно не оскорбил вас. Я отдал достояние свое и детей своих за отчизну, веру и короля. Зачем же вы призвали к себе моего первенца, хотя тысячу раз могли отнять жизнь у меня, жалкого, ни на что не годного старика? Сеньоры, вы все свидетели моих слез, и я не стыжусь плакать перед вами. Сердце мое разрывается, но я остаюсь прежним Монторьей. Стократ счастлив ты, сын мой, — ты честно пал на боевом посту. Горе нам, оставшимся жить без тебя, но так угодно господу. Склонимся же перед волей вседержителя. Жена, бог послал нам мир, счастье, благоденствие и хороших детей; теперь он видно, решил взять обратно свои дары. Смирим же наши сердца и не дерзнем проклинать свою участь. Благословенна рука, карающая нас, и да будем спокойно ждать великого благодеяния — нашей собственной смерти.
Донье Леокадии оставалось только плакать и непрестанно целовать холодное тело сына. Наконец дон Хосе, решил прервать невыносимые страдания жены, поднялся и твердо сказал:
— Встань, Леокадия. Нашего сына пора хоронить.
— Хоронить!.. Хоронить его? — вскрикнула мать и, не сказав больше ни слова, упала без сознания.
В этот миг поблизости от нас раздался душераздирающий вопль, и какая-то женщина, охваченная ужасом, бросилась к нам. Это была жена несчастного Мануэля, разом лишившаяся и мужа и ребенка. Некоторые из нас поспешили остановить невестку дона Хосе и избавить ее от повторения сцены, не менее страшной, чем та, которую она только что пережила. Бедная женщина вырывалась и умоляла позволить ей взглянуть на мужа.
Тем временем дон Хосе, отойдя от тела сына, приблизился к тому месту, где лежал бездыханным его внук; он взял ребенка на руки, принес и положил рядом с Мануэлем. Больше всего нуждались в нашей заботе женщины: донья Леокадия, все еще не приходя в себя и не двигаясь, обнимала тело сына, а ее невестка, словно обезумев от невыносимого горя, металась в поисках воображаемых врагов, которых ей не терпелось разорвать на части. Мы удерживали ее, но она упорно сопротивлялась, то разражаясь диким хохотом, то падая перед нами на колени и умоляя нас вернуть ей живыми два существа, которых мы отняли у нее.
Мимо проходили люди — солдаты, монахи, горожане, и все равнодушным взором смотрели на это зрелище: подобные картины встречались тогда на каждом шагу. Сердца людей окаменели, и души их, казалось, утратили высокие свои достоинства, сохранив один лишь неистовый героизм. Наконец усталость и полная опустошенность, порожденные горем, сломили бедную женщину, и она, как мертвая, упала нам на руки. Мы попросили у соседей сердечных капель и немного еды, чтобы привести ее в чувство и поддержать в ней силы, но так ничего и не раздобыли: у всех, кого я там видел, хватало хлопот со своими собственными близкими. Между тем дон Хосе с помощью своего младшего сына Агустина, который тоже силился побороть глубокую скорбь, высвободил труп Мануэля из объятий доньи Леокадии. Несчастная женщина была в таком ужасном состоянии, что мы боялись, как бы нам не пришлось оплакивать в этот день еще одного покойника.
Затем Монторья повторил:
— Пора хоронить моего сына.
Он осмотрелся вокруг, мы сделали то же самое и увидели великое множество мертвецов, так и не преданных земле. Их было полным-полно на улице Руфас; а на соседней улице, называвшейся Импрента, образовалось нечто вроде целого склада трупов. И я отнюдь не преувеличиваю. Поперек узкой улицы штабелями лежали бесчисленные тела, образуя от дома к дому нечто вроде широкой стены. На нее было так страшно смотреть, что каждый зритель зловещей картины был обречен всю жизнь видеть перед главами этот погребальный костер, сложенный из тел его ближних. Пусть читатель не думает, что я фантазирую; все это правда. Один человек вышел на улицу Импрента и окликнул соседа. Тот выглянул в окошко и ответил: «Поднимись ко мне». Тогда первый, полагая, что входить в дом по лестнице нет смысла, влез по груде тел на второй этаж, и одно из окон послужило ему дверью.
На многих других улицах происходило то же самое. Был ли расчет рыть могилы? На каждую пару здоровых рук и каждый заступ приходилось полсотни мертвецов. Ежедневно эпидемия уносила от трехсот до четырехсот горожан. Каждая ожесточенная схватка стоила жизни нескольким тысячам человек. Сарагоса из большого, густо населенного города прекращалась в огромное кладбище.
Увидев, что творится вокруг, Монторья сказал:
— У моего сына и внука не будет преимущества перед остальными: мы не станем предавать их прах земле. Души их уже на небе, остальное не имеет значения. Положим их здесь, на улице Руфас, вон у этих дверей… Агустин, сын мой, иди-ка ты лучше туда, где дерутся. Начальство, того и гляди, хватится тебя, и потом, думается мне, на улице Магдалины сейчас каждый человек на счету. У меня теперь один сын — ты. Что останется у меня, если ты погибнешь? Но долг превыше всего, и лучше уж мне видеть тебя мертвым, с головой, простреленной французской пулей, как у твоего брата, нежели трусом.
Он положил руку на обнаженную голову сына, преклонившего колени у трупа Мануэля, и, подняв глаза к небу, продолжал:
— Господи, если ты решил призвать к себе и второго моего сына, то возьми прежде меня самого. Когда кончится осада, мне незачем будет жить. Мы с моей бедной женой были достаточно счастливы, на нашу долю выпало довольно благ, и мы не проклянем десницу, карающую нас. Но разве испытаний, пережитых нами, еще мало? Неужели должен погибнуть и второй наш сын? Что ж, сеньоры, — добавил он, помолчав, — покончим с этим делом: мы наверняка нужны в другом месте.
— Сеньор дон Хосе, — плача, сказал дон Роке, — уходите-ка вы тоже: мы, ваши друзья, сами выполним печальный долг.
— Нет, я сделаю все, что нужно: бог дал мне душу, которую не согнешь и не сломишь.
С помощью дона Роке он поднял труп Мануэля, а мы с Агустином взяли на руки тело ребенка и отнесли мертвецов к началу улицы Руфас, где многие другие семьи оставляли покойников. Монторья положил наземь тело, опустил руки, словно лишившись от напряжения последних сил, и с тяжелым вздохом сказал:
— Да, сеньоры, не могу отрицать: я устал. Еще вчера я чувствовал себя молодым, а сегодня состарился.
Действительно, Монторья казался дряхлым стариком; одна эта ночь стоила ему десяти лет жизни.
Он сел на камень, уперся локтями в колени и сжал голову руками; так он просидел некоторое время, и мы не нарушали его скорбного молчания. Донья Леокадия, ее дочь и невестка с двумя домочадцами оставались на Косо. Дон Роке, ходивший от одной группы к другой, сказал:
— Сеньора совсем убита горем. Все они исступленно молятся и плачут. Бедняжки ужасно ослабели. Ребята, порыскайте по городу да поищите для них чего-нибудь съестного.
Монторья встал и вытер слезы, потоком струившиеся из его покрасневших глаз.
— Думаю, кое-что все-таки найти можно. Дон Роке, друг мой, поищите-ка вы сами что-нибудь поесть, да не торгуйтесь — дайте любую цену.
— Вчера на Мясном рынке за курицу просили пять дуро, — сказал один из старых слуг дона Хосе.
— А сегодня птица и вовсе исчезла, — отозвался дон Роке, — я как раз там недавно проходил.
— Друзья, поищите по соседству, может быть, что-нибудь и найдется. Для меня самого ничего не нужно.
В это мгновение раздался приятно удививший нас крик петуха. Мы радостно устремили взгляд в конец улицы и увидели там дядю Кандьолу, который нес в левой руке уже известную читателю живность, а правою гладил ее черные перья. Мы еще не успели обратиться к нему с просьбой, как он уже подошел к Монторье и весьма ехидно предложил:
— Унцию за петушка.
— Постыдились бы! — возмутился дон Роке. — Да разве это птица? Одни кости.
Видя столь наглядный пример отвратительной скупости и жестокосердия скряги, я не сдержался, гневно подошел к старику и, вырвав петуха у него из рук, грубо приказал:
— Этот цыпленок краденый! Убирайся отсюда, подлый ростовщик! Если бы хоть свое продавал! Унцию! Да вчера на рынке курица шла по пять дуро. Слышишь, каналья, грабитель, пять дуро — и не песо больше!