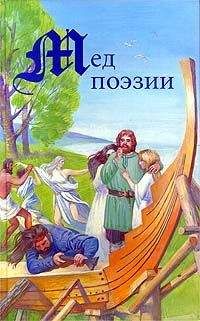Елена Крюкова - Русский Париж
И детей она больше не родит. Стара.
Все, отзвонил колокол.
Из окна ее жалкой квартирки, в страшной, занебесной дали, видна страшная башня Эйфеля. Железные ребра. Стальные кости. Сколько самоубийц забиралось наверх — и кидалось вниз, в сладкие объятья небытия. Зачем — жить? Зачем — быть, если кончено все?
Говорят, французы объединяются в тайные общества, чтобы противиться оккупации. Молодцы. А что творится сейчас в России? Разбомбили Киев. Минск в руинах. Германцы идут на Москву. Аля! Сема! Хоть бы письмо… хоть строчка.
«Они отступают, солдаты отступают. И будут отступать».
Лист бумаги. Чистый лист. Чистый, как снежное поле. Белое поле. Метель. Простор. Лед. Звездное небо, прогал черноты, острые иглы посмертного света. Большинство звезд, на которые мы смотрим ночами, — мертвы. Свет от них еще идет, а они — погасли.
«Пойдет ли от меня, мертвой, свет?!»
Ты слишком хорошо думаешь о себе. Слишком любишь себя. Будь проще и суровей. Вот чистый лист. Вот ручка. Запиши, что надо. Пиши.
И она писала. Послушно, как гимназистка — диктант.
«Как назову? В последний раз танцую с тобой, любимый. Любимый?!»
Нет. Не Семен. И никто из всех других.
Лицо Игоря Конева из мрака склонилось над ней.
Его сильные руки вели, вели ее — в последнем, страшном танго.
Последний танец над мертвым веком
Я счастливая. Я танцую с тобой.
Ты слышишь, ноги мои легки.
Я танцую с тобой над своей судьбой.
Над девчонкой войны — ей велики
Ее валенки, серые утюги.
Над теплушкой, где лишь селедка в зубах
У людей, утрамбованных так: ни зги,
ни дыханья, а лишь — зловонье и прах.
Над набатом: а колокол спит на дне!.. —
а речонка — лед черный — на северах…
Я танцую с тобой, а ступни — в огне.
Ну и пусть горят! Побеждаю страх.
Мы над веком танцуем: бешеный, он
истекал слюной… навострял клыки…
А на нежной груди моей — медальон.
Там его портрет — не моей руки.
Мне его, мой век, не изобразить.
Мне над ним — с тобою — протан-цевать:
Захрипеть: успеть!.. Занедужить: пить…
Процедить над телом отца:…твою мать…
Поворот. Поворот. Еще поворот.
Еще па. Фуэте. Еще антраша.
Я танцую с тобой — взгляд во взгляд, рот в рот,
как дыханье посмертное — не-ды-ша.
Так утопленнику дышат, на ребра давя,
их ломая — в губы — о зубы — стук.
Подарили мне жизнь — я ее отдала
в танцевальный круг, в окольцовье рук.
Мы танцуем над веком, где было все —
от распятья и впрямь, и наоборот,
Где катилось железное колесо
по костям — по грудям — по глазам — вперед.
Где сердца лишь кричали: Боже, храни
Ты царя!.. — а глотки: Да здрав-ству-ет
Комиссар!.. — где жгли животы огни,
где огни плевали смертям вослед.
О, чудовищный танец!.. вихрись, кружись.
Унесемся далеко. В поля. В снега.
Вот она какая жалкая, жизнь:
малой птахой — в твоем кулаке — рука —
Воробьенком, голубкой…
…Голубка, да. Пролетела над веком — в синь-небесах!.. —
Пока хрусь — под чугун-сапогом — слюда
наста-грязи-льда — как стекло в часах…
Мы танцуем, любовь!.. — а железный бал
сколько тел-литавр, сколько скрипок-дыб,
Сколько лбов, о землю, молясь, избивал
барабанами кож, ударял под дых!
Нету времени гаже. Жесточе — нет.
Так зачем эта музыка так хороша?!
Я танцую с тобой — на весь горький свет,
и горит лицо, и поет душа!
За лопатками крылья — вразмах, вразлет!
Все я смерти жизнью своей искуплю —
Потому что в любви никто не умрет,
потому что я в танце тебя люблю!
В бедном танце последнем, что век сыграл
на ребрастых арфах, рожках костяных,
На тимпанах и систрах, сестрах цимбал,
на тулупах, зипунчиках меховых!
На ребячьих, голодных, диких зрачках —
о, давай мы хлеба станцуем им!.. —
На рисованных кистью слезы — щеках матерей,
чьи сыны — только прах и дым…
На дощатых лопатках бараков, крыш,
где за стенами — стоны, где медью — смех,
Где петлей — кураж, где молитвой — мышь,
где грудастая водка — одна на всех!
Ах, у Господа были любимчики все
в нашем веке — в лачуге ли, во дворце…
А остались — спицами в колесе,
а остались — бисером на лице!
Потом-бисером Двух Танцующих, Двух,
колесом кружащихся над землей…
И над Временем… дымом кружится Дух…
Только я живая! И ты — живой!
Только мы — живые — над тьмой смертей,
над гудящей черной стеной огня…
Так кружи, любимый, меня быстрей,
прямо в гордое небо неси меня!
В это небо большое, где будем лететь
Все мы, все мы, когда оборвется звук………………………….
Остановилась на миг. Перо черкало по бумаге линии, стрелы. Перо летело дальше, во тьму, в пустоту.
Мне бы в танце — с тобой — вот так — умереть,
В вековом кольце все простивших рук.
Опять катилась ручка на пол. Анна встала. Хотела бумагу скомкать — рука не поднялась уничтожить написанное.
Кому все это надо?!
Господу; только Ему. А кому ж еще?
Мы не знаем, зачем живем. Почему живем. Почему — войны и кровь. Что будет потом. Через сто лет. Через пятьсот.
«Что?! Да все то же. Война. Кровь. Смерть. И — рождение новых страдальцев».
Все внутри закричало: нет! Нет! Неужели все так просто и страшно!
«Тогда, Господи, где же Ты?!»
Шла, цепляясь за стену. Падала. Ноги заплетались. Как пьяная. «Да ведь я не пьяна; что со мной?» Задела локтем горшок с чахлыми фиалками на краю стола, горшок упал, разбился, сухая земля брызнула ей на ноги, раскатилась на полу катышками.
«Земля. Черная, жесткая земля. И я в нее лягу».
Оборачивалась. Вертела головой. Искала глазами.
«Что?! Что я ищу?!»
Потолок. Старый абажур. Дверь на скрипучих петлях. Притолока. Вешалка. Крючья. Гвозди.
Гвоздь. Молоток. Гвоздь и молоток.
Шатаясь, выдвинула ящик стола. Инструменты, много железяк. Клещи. Напильники. Два штопора. Где вино?! Пальцы швырялись в железном развале. Антиквариат. Человечий инвентарь. Во все века один и тот же. И у Людовика Шестнадцатого имелись сверла и отвертки?! И у него. А как же.
Гвозди! Гвозди! Запустила руку глубже. Уколола пальцы, ободрала ладонь. Цапнула горсть гвоздей. Тонкие. Нет! Не такие!
На корточки села. Ящики выдвигала. Губы мерзли. Кожа, обтягивающая череп, мерзла.
Вот! Пальцы схватили, обрадовались прежде разума. Толстый, старинный, чугунный, ржавый, мощный. Будто — на Голгофе найденный. Будто — выдранный клещами из распятия.
Молоток и гвоздь. Быстрее. Пока сын не пришел.
Села за стол. Бросила молоток и гвоздь в подол. Губы тряслись. Вывела на чистом листе, на синей от лунного молока бумаге:
ПРОСТИ, СЫНОК. ПРОСТИ И ПОМОЛИСЬ ЗА МЕНЯ.
НЕ МОГУ БОЛЬШЕ.
Шкаф. Стена. Дверь. Подняться на цыпочки. Нет. Не пойдет.
Ногою пнула к двери стул. Влезла на стул. Качалась. Чуть не упала. Удержалась.
Вбивала Голгофский гвоздь в стену — над дверным проемом.
Хорошо. Крепко сидит. Вот так хорошо. Отлично.
Ее война. Она сейчас кончится.
Перемирие. Белый флаг. Белое поле. Снег. Ветер. Звезды.
Спрыгнула со стула. Подвернула ногу. Охнула. Боль?! Сейчас пройдет.
Сейчас все пройдет навек и навсегда. Боль. Радость.
Руки сами видели. Руки искали. Нашли. Ее старый халат. Пояс. Оторвать. Крепкий. Выдержит.
Руки сладили петлю — будто век петли ладили. Ловко, быстро.
Снова взобраться на стул. Высоко. Далеко видно. Очень далеко.
Будто летит в самолете. Ни разу не летала. А вот летит. Синяя толща времени прозрачна. Гул моторов. Шлема нет! Это ничего. Ветер треплет волосы. Холодно. В небе очень холодно. Холоднее, чем на земле.
Сунула голову в петлю. Сейчас прыгать! С самолета. Без парашюта. Парашюта нет. Да и не было никогда. Ни лонжи; ни парашюта; ни троса.
Только — крылья. Были — крылья. Были.
Шагнула со стула вниз.
Выпала — из люка самолета.
И сразу в уши ввинтился гул. Страшный, все застилающий гул.
…и она увидела, далеко внизу, под собою: белые платы, белые пелены, летящие белые квадраты полей, снег, длинные белые полосы снега, белые чернила, брызгают и льются, они зачеркивали все написанное ею, все выплаканное и любимое; и черная бумага земли внизу молчала, ветер рвал ее в клочья.
Увидела крыши деревни, кучно стоящие избы, и огромные старые ветлы, занесенные снегом, и ближе, еще ближе — одну избу. И серый день, и серые бревна избы, и серая крыша, и кот на заборе. Валит серый дым из трубы. Серое на белом. Цвета нет. Кончился цвет. Вытерся, высох. Снег вокруг шеи закрутился змеей, русский страшный, любимый снег. Кованое серебро. Крыльцо. Дверь в избу открыта. Она входит в черную пасть. Медный самовар на столе, свечи пылают, трещат, золотой мед тепло, медленно, вязко течет от иконы. Моченая брусника в деревянной миске. Пирог с капустой. И Аля сидит, незнакомая, постаревшая, в холщовом сером платочке, и улыбается жалко, нарисованным ротиком любимой куколки, и лепечет, как в детстве: мамочка, мамочка, садитесь к столу, я вам капустный пирог испекла.