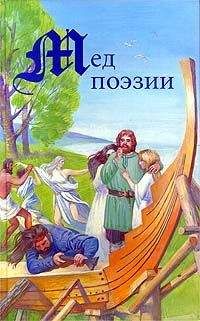Елена Крюкова - Русский Париж
Браслет, подаренный царем — на ее руке. Он вернулся.
Разве возвращается ушедшее навек? Это подделка; Рауль, любя и жалея ее, просто заказал точно такой же — у самого дешевого ювелира на Монмартре, в Латинском квартале.
Рауль Пера ушел.
Вместе с ним ушла юность, молодость.
Он оставил ей немного денег. Тайком, когда она вышла в прихожую, чтобы отворить ему дверь, положил деньги в конверте на край стола.
Рауль теперь был смотрителем двух особняков и коллекции княгини Маргариты Тарковской. Картуш положил ему хорошее жалованье.
* * *Анна купила у мальчишки-газетчика свежую газету. Развернула, скользила глазами по столбцам и колонкам. Грязный заголовок, подлый шрифт! Но нынче война. И в газетах могут выболтать правдивую ложь — а могут и лживую правду пропечатать. Жалкий, бледный слепок времени.
Зрачки дергались, пальцы хрустели свинцовой бумагой.
Мелькнуло знакомое имя: «ЭНТОНИ ХИЛЛ. ПОВЕСТЬ ОБ ОБЕЗЬЯНКЕ КОЛЕТТ».
И фотография: усы щеткой моржовой, прищур умных, слишком светлых, ледяных глаз, сердито надутые губы, широкие скулы. Лицо-тарелка-ресторанная, лицо-миска-лагерная. Что-то индейское есть в нем.
Господи, Хилл. Откуда, Господи?
А, это тот знаменитый американец. Игорь говорил про него. Да, писатель; салон великой Стэнли посещал; он уехал, кажется, в Испанию. Воевать. А может, уж и в Нью-Йорке родном давно.
Анна читала. Морщились губы в усмешке. А ничего, нравится ей!
Присела с газетой на скамью. Увлеклась. Читала жадно, и смеялась, и плакала, и вскрикивала, и кусала губы. Ай да Хилл, ай да сукин сын! Давненько она так вот… над печатной страницей…
Когда сложила газету и встала — почудилось: она — обезьянка эта, и вместе с нею скиталась по свету, и вместе с ней — жизнь прожила.
* * *Легла спать. И уснуть не могла.
Ворочалась, ворочалась под одеялом. Жмурилась. Клала ладони на глаза. Под ладонями — глаза открывала, глядела в кромешную, довременную тьму. Во тьму — до рождения и после ухода. Когда ты уйдешь? Не знаешь. И верно, что не знаешь.
Звук тонкий и хрупкий, будто треснуло оконное стекло. Или мышь уронила в шкафу рюмку. Шелест. Шорох. Дыханье. Испариной вызвездило виски. Нежная, размытая, насквозь прозрачная женская фигура медленно вплыла, втанцевала в комнату. Анна приподнялась на локтях. Подушку локти прожигали. Или это подушка жгла кожу? Огонь, она огонь, она живая, а это призрак. Чей? Он не скажет тебе.
Женщина. Прозрачная туника. Полные бедра колышутся, дрожат. Груди свисают дынно, тяжело. Все белое нежное тело вздымается, опадает кислым дрожжевым тестом, играет, вьется, вздрагивает. Выщипаны брови. Густо накрашены тушью ресницы. Румяной пудрой присыпаны сморщенные щеки. Старая, а танцует, как молодая. Смешно трясется, пухнет и трепещет тело. Вздувается нервный зоб. Взлетает и летит в потоке сквозняка легчайшая ткань накидки. А может, это газовый шарф.
— Ифигения, — мертвыми губами вымолвила Анна.
Покойница. Покойники приходят, если зовут за собой. Зовут — к себе.
Ифигения Дурбин, легко переступая на цыпочках, плавно взмахивая дебелыми руками, подплыла, как по воздуху, к кровати. Прозрачная ткань текла и утекала. Струилось бедное, светлое время. Вспыхивали волосы, белели ладони во мраке спальни.
— Ифигения, зачем ты пришла?
Танцовщица легко, прозрачно улыбнулась. Призрак близко. Он рядом. Она слышит его дыханье. А призрак — ее. Два дыханья сплелись. Это опасно. Тот мир! Значит, он есть?
— Я не знаю.
Призрачный, чуть слышный шепоток. От губ к губам.
— Ты танцуешь на небе?
— Хочешь танцевать со мной?
— Я твоя поломойка.
— Ты великая, и я великая. Меж нами теперь разницы нет. Ты скоро будешь гостья моя. Я обниму тебя.
Протянуты руки. Мышцы сдулись, как воздушный шар, и дряблая кожа висит белым флагом. Круглые толстые плечи рвут тончайшую небесную ткань. Где плоть? Нет ее. Виденье, вот все, что осталось. И они с нею призраки; и они куклы, и настает черед им сгореть в печи, ибо Хозяин уже заказал у кукольника другие, свежие, ярко раскрашенные фигурки.
Ифигения пьяно шатнулась перед Анниной кроватью. Анна вцепилась кулаками в простыню.
— Ты… увидела там своих детей?..
Сквозь ночь, сквозь туман и облака тихо, глухо донеслось:
— Да. Они сказали мне: мама, это мы бросили тебе с небес шарф! Чтобы ты к нам скорей пришла. Мадам Зарьов, вы не похожи на человека!
— А на кого? На ангела?
Улыбка рассекла надвое дрожь бледного рта.
— На обезьянку.
— Вы врете, — горло Анны дернулось, — мадам Дурбин…
Призрак наклонился над лежащей, над живой. Призрак мерцал и вздрагивал. Одна большая погасшая человечья звезда. А свет от нее еще идет.
— Куколка, обезьянка. Я никогда не вру. Вы хотели повторить в стихах весь мир. Собезьянничать мир, станцевать точь-в-точь. Вам это удалось. А вас никто не повторит. Никому не удастся.
Призрачная улыбка. Если это мадам Смерть — почему она без савана, без косы?!
— А вдруг!.. — Анна выгнулась назад, держа тело на локтях. Задыхалась. — А вдруг родится такая же Анна… сто, двести лет спустя?!
— Там, где я, там нет летоисчисленья. Я разом вижу все, что было, что нынче, что будет.
Анна вытянула руку. Хотела дотронуться до прозрачной летящей ткани.
Ей обожгло ладонь. Темнота. Тишина.
* * *Париж — трус. Франция — трусиха. Не стали бороться, сдались.
Соленые французские шуточки! Соленые мидии в собственном соку! Где вы?
Сдали все, пугливо, добровольно отдали страну.
Лжецы, кто у власти. Лгут народу.
А народ — он что? Он жрет и пьет, смеется и дерется. Думает, что живет, а — умирает безвольно. Народ танцует? О, еще как! Война не война, из каждого ресторанчика — в Латинском ли квартале, на Монмартре, на Варенн и Риволи — звучит танго. И танцуют танго, танцуют. Как пьяные. Будто танго — не танец, а хлеб. Вино.
Хлеб и вино — это уже любовь.
Черт, это ж Причастие!
Причаститься бы. Да лень идти в храм на рю Дарю. Ноги не несут.
Богу молиться — не хочу. А что хочу?
Танцевать хочу! И не могу. Не умею; так и не научилась.
Только с Игорем и танцевала. Однажды. На глазах у Семена. И девчонки ложками по чашкам били, ритм отбивали.
Где этот смуглый наглый мальчик? Он победил судьбу. Он счастлив и богат. А она бедна и никому не нужна. Каждому свое. Слышишь, каждому свое!
Мальчики, девочки. Девочки и мальчики. Оглянись назад. Девочки, ты их тоже любила. Там, в России. Когда-то. Давно. Двух: поэтку Зину Порцеллан и актерку Дусю Хирш. Зина и вправду фарфоровая была. Белые ручки, тонкие, как белая трава, запястья. Щеки прозрачные — косточки видать. Нежная очень. Это она ее совратила. Страсть, жажда, алчба. Прошла, когда насытились. Умопомраченье. Она после ненавидела себя, презирала. Твердила себе: Анна, это ж грех! А что такое грех? До сих пор не знает. Может, грех — это вся жизнь? Ибо всякий день человек грешен? Замучишься исповедоваться. Храмов на всех не хватит.
А с Дусей была любовь. Настоящая. В постели рубах не снимали. Ложились, целомудренно обнимались, прижимались крепко, как сестрички. Плакали от счастья дышать, осязать, молиться. Да, это была молитва. Настоящая любовь и настоящая молитва. А в церкви призналась бы — иерей бы испепелил проклятьем. Не отпустил бы грех содомский.
Господи! Скольких обнимала!
«Ах ты, да я же просто Магдалина. Где мой Христос?»
* * *Коса на камень.
Искры сыплются.
И загорается сухое сено, солома, хворост сухой.
Все высохло вокруг. Страшное лето идет, торжествует.
К ней в спальню, где стояли стол да колченогий диван, застеленный двумя штопаными простынями, вошел сын. Брови изогнуты скорбным домиком.
Изменился в лице. Будто постарел враз.
— Мама, вы уже знаете?
Анна оторвала взгляд от исписанной бумаги.
— Что?
— Извините, я вас потревожил. — Голову наклонил — как отец. — Война.
— Война? — Анна глядела сонно, тоскливо, непонимающе. — Какая война? Война идет, она везде…
— У нас война.
— У нас?
Углы губ приподнялись, как у Моны Лизы Леонардовой, в Лувре.
— Гитлер напал на Россию. Сегодня ночью.
Кованая змея крепко обнимала загорелую руку.
Анна хотела положить ручку, а вместо этого уронила, ручка катилась со стола на пол, чернила пятнали лист, ручка падала, пачкая Аннину юбку, а она все смотрела, смотрела на свою ручную змею.
* * *«Мое время умерло. Мой век мертв. Если моя Россия мертва — что делать еще на земле?»
Теплая, душная июньская ночь. Париж спит и не спит. Париж — город ночи; жизнь ночью в Париже соблазнительней, ярче, чем днем. Умерло то время, когда она, девочкой, ходила вместе с матерью по ночному Парижу; по ночному Лондону; по ночному Риму. Европа была другая; и она была другая. И поезда были другие; и кофе в кофейнях; и камни мостовых. Мир переродился. Мир умер и родился вновь, а ей не повезло побыть его повивальной бабкой.