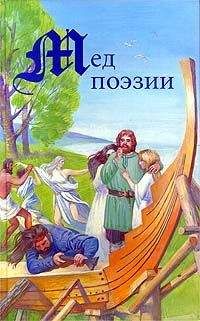Елена Крюкова - Русский Париж

Обзор книги Елена Крюкова - Русский Париж
Елена Крюкова
Русский Париж
© Елена Крюкова, 2014
© Валерий Калныньш, оформление, 2014
© Владимир Фуфачев, иллюстрации, 2014
© «Время», 2014
* * * Серия «Самое время!»
Русские в Париже 1920–1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине — может, уже никогда не придется ее увидеть. И — великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.
Памяти Марины Ивановны Цветаевой и ее семьи;
Ренэ Герра, великому французу и великому русскому;
всем русским, живущим вдали от Родины — посвящаю
Ренэ Герра
Русская Франция: реальность и символ
Русская послереволюционная эмиграция — уникальное по своим масштабам и культурному значению явление. Феномен культуры русского зарубежья, сложившийся в период между двумя мировыми войнами, не имеет аналогов в истории человечества. Революция оторвала от России творческую интеллигенцию, которая волею судьбы оказалась по другую сторону рубежа.
После Октябрьского переворота и по окончании Гражданской войны русская культура Серебряного века оказалась выброшенной за пределы России, и с 1924 года Париж стал де-факто столицей Зарубежной России.
Итак, две великие культуры, русская и французская, волею судеб стали сосуществовать на французской земле. Отсюда сразу возникает целый ряд вопросов об их взаимоотношениях, взаимопонимании, взаимопроникновении, о восприятии и вкладе русской культуры во французскую культуру… Что касается русских культурных деятелей Рассеяния, писатели, поэты, философы и художники поистине совершали подвиг: в чужой языковой среде, в чужом быте, в отрыве от родной почвы, они всячески стремились сохранить себя, свои традиции, чистоту русского языка, дух и ценности исконно русской культуры, попираемой на родине большевиками. Ведь каждый из них унес с собой Россию, свою Россию, и преданность ей…
Мой покойный друг Роман Борисович Гуль метко озаглавил свою трехтомную апологию эмиграции: «Я унес Россию». Ведь они все — великие известные и великие неизвестные — оставались до конца подлинными российскими интеллигентами, доброжелательными, чистыми, наивными идеалистами — тургеневскими «лишними людьми». И эти «лишние» — соль земли.
Поэт и критик Юрий Иваск как-то написал: «Эмиграция всегда несчастье. Ведь изгнанники обречены на тоску по родине и обычно на нищету. Но эмиграция не всегда неудача — творчество, творческие удачи возможны и на чужбине».
Эта трагическая страница русской истории ХХ века оказалась великой удачей для ее жертв и в конечном итоге для всей русской культуры.
И тому лучшее доказательство — всемирный успех представителей русской элиты в Рассеянии, ставшей сегодня национальной гордостью не только Франции, но и России. Своим творчеством, своей жизнью они доказали, что когда-то ими был сделан трудный, но правильный выбор. Этот опыт и пример русских изгнанников — в высшей степени поучительный урок, предпосланный новым поколениям посткоммунистической России.
Я же сохраняю обо всех этих белых эмигрантах благодарную память.
Русская первая эмиграция уже стала и для французской, и для мировой культуры своеобразным символом стойкости духа, щедрости сердца, возможности сохранить духовные сокровища нации в иной языковой и культурной среде.
Очень важно, что русские писатели, художники сейчас обращаются к теме русской эмиграции во Франции, тем самым подчеркивая связи двух культур, заново открывая исторические имена, события и положения. Так, для меня большой радостью явился роман Елены Крюковой «Русский Париж» — попытка художественно осмыслить все происходившее с русскими во Франции в первой половине двадцатого века.
Елена Крюкова обращается и к истории, и к современности. Ее волнуют контрастные темы: религия, политика, эмиграция.
Автор пытается поднять событие до уровня мифологии, а сиюминутность — до уровня метафоры, символа-знака. Мост между мифом и ярко прописанными картинами реальности, жизни — вот творческое кредо писателя.
Так, на стыке жесткой реальности и высокой поэзии, написан «Русский Париж» — своеобразная торжественная ода белой эмиграции, переходящая временами во взволнованный речитатив, а иной раз — в поток чистой исповедальной лирики.
Это художественный текст, основанный на узнаваемых исторических фактах, на моментах жизни реальных исторических персонажей. Это своеобразная гигантская фреска, фигуры которой живут по своим законам.
Не столь важен сюжет, сколь живая боль и живая радость тех людей и тех далеких лет — а они сполна присутствуют в книге.
Я желаю этому роману счастливой судьбы.
Канкан
Глава первая
Поезд «Прага — Париж». Катит через всю Европу: с востока — на запад. Темнота, духота, тряска. Из старой кожаной сумки — запах еды. Верная подруга Заля Седлакова насовала с собою в дорогу всевозможной снеди — чтобы дети не голодали. Дети, да. А они с Семеном? Они уже могут не есть ничего. Питаться святым духом.
Вагоны трясло на стыках. Стекла окон затянуты страшными ледяными узорами. Анна не спала, глядела в окно. По зрачкам резко, больно бил фонарный свет. Станция. Анна не жмурилась. Широко открыты глаза. Думы овевают лоб, как табачный дым. Жаль, в купэ нельзя курить.
Поезд опять стоял, на перроне уныло выкликали время отправления: сначала по-чешски, потом по-немецки, потом, после Страсбурга, — по-французски. Анна так и проехала всю Германию — с широко открытыми бессонными глазами. Когда фонарь бил то синими, адскими, то густо-желтыми, как яичный желток, лучами в замерзшее окно, Анна видела: ледяные розы и тюльпаны на оконном стекле вспыхивают, искрятся.
Дети тихо спали на нижней полке, вдвоем. Аля крепко прижимала к себе Нику. Ника оттопырил во сне нижнюю губу и стал похож на сына Наполеона. Теплые комочки. Родные. Спят или притворяются? Нет, кажется, спят, и крепко. Укачало их.
Семен не спал. Она слышала. Ворочался, вздыхал. Она лежал выше всех — на верхней полке: купэ было трехместное, и полки располагались одна над другой. Почему купэ теперь стало напоминать ей тюремные нары? Они же свободны, они в свободной Европе, и никакого красного террора, никаких расстрелов без суда и следствия. И — никаких тюрем. Пусть попробуют за решетку посадить!
Свобода Европы… блеф… пустота… суета.
Поезд шел, и качались вагоны, и внутри Анны рождались слова. Она все время гудела стихами, и днем и ночью. Днем научилась приглушать в себе эту музыку. Днем надо было работать, бесконечно работать. Зарабатывать деньги; варить еду; стирать и мыть; топить печь. Она без слез не могла вспомнить печи, что топила в Чехии — одну во Вшенорах, другую — в Мокропсах. Руки вечно в угле. Трещины на пальцах, на ладонях болят нестерпимо. Она сама пахла углем и гарью — вместо духов и пудры. Чудесное амбрэ.
Поезд, помоги… Поезд, стучи в такт…
«…мы в тюрьме. Мы за решеткой века. Кат, царевич, вопленица, вор. Не скотов сочтут, а человеков. По складам читают приговор…»
Длинно, тяжело вздохнул Семен.
Вот так же уезжали из Москвы когда-то. Сначала до Петрограда; там на Виндавский вокзал, и поезд до Риги; а в Риге на перрон вышли, носильщик услужливо подбежал с тележкой, видит — поклажа тяжелая, залопотал сначала по-латышски — Анна глядела непонимающе, — он перешел на немецкий, и Анна вздрогнула и ответила: «Danke schön, ich habe kein Geld». Семен возмутился: что ты, Аня, у нас же есть деньги! Носильщик гордо поправил бляху на груди. Перевез на грохочущей тележке их багаж к берлинскому поезду.
Потом — Берлин. На перроне бледный поэт Андрей Быковский, встречает, губы трясутся. Семен подхватил все баулы и чемоданы один, чуть руки тяжестью не оборвал. Анна схватила на руки Алю. Тогда у нее была одна Аля. Ника тогда еще не родился.
Никогда не родиться и никогда не умереть — вот счастье.
«Улещают плесенью похлебки… К светлой казни — балахоны шьют… Затыкают рты, как вина, пробкой… А возжаждут крови — разобьют…»
Стихи лились: вино, кровь. Губы покривились в горькой усмешке. «Кому нужны будут русские стихи в Париже? Семену буду читать. Кошку заведу — кошке буду читать. Алю стихи уже не интересуют. Ее уже помады интересуют… туфельки на каблучках…»
Тяжелые веки опустить на глаза. Постараться заснуть. Хоть на час. На миг.
Берлин. Мрачные дома. Быковский нашел им тогда квартиру в центре, близ Александерплатц. Дешевую: чердак. Анна смеялась: как в Москве, в Борисоглебском! Семен устроился работать дворником — мел и скреб берлинскую улицу перед их домом. Анна кусала губы: уж лучше бы в газету! Дворнику платили лучше, чем журналисту. Аля по утрам плевалась от Анниной крутой, с противными комочками, манной каши. «Александра! Благодари Бога за еду и ешь!» — зло кричала Анна, и лицо ее покрывалось коревыми, красными пятнами. «Вы же сами не верите в Бога, мама», — бросала ложку Аля на стол со звоном.