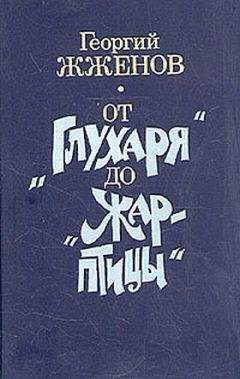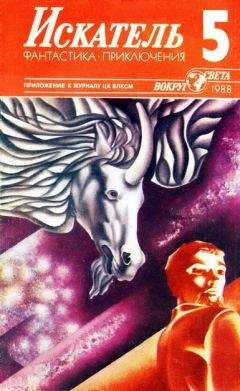Русская миссия Антонио Поссевино - Федоров Михаил Иванович
Амфилохий отвернулся от гостей. Брату Гийому его слова показались бессвязными, как бред умирающего. Он ещё не успел без свидетелей поговорить с Ласло, но теперь был уверен — у того всё получилось как надо.
На плечо брата Гийома легла чья-то рука. Он обернулся: перед ним стоял человек в монашеской рясе, но взгляд его был каким-то колючим, в нём не было ни капли благости, отличающей людей духовного звания от мирян.
— Вы утомили старца, — коротко сказал он. — Ступайте на вечерню. Где разместиться, вам укажут.
— Да-да, брат Онуфрий, проводи их, — слабо сказал Амфилохий, — а мне надо помолиться. — И он закрыл глаза.
Онуфрий, оказавшийся экономом [183] Сергиевой обители, повёл брата Гийома и Ласло на службу, по окончании которой им указали на места в доме для паломников.
— Отец Амфилохий велел, чтобы вы до его отпевания не покидали обитель, — сурово произнёс Онуфрий и удалился.
Старец умер под утро. То ли брат Гийом перемудрил с ядом, то ли здоровье у старца было уже слишком слабым, но отрава подействовала слишком быстро. Брат Гийом, узнав о кончине, в панике хотел бежать из обители, но Ласло остановил его:
— Не стоит. Если сбежим, на нас сразу и подумают. А зимой путников поймать легко, в лесу ведь не укроешься.
Они выстояли отпевание Амфилохия, потом задержались на девять дней. Брат Гийом снова хотел уйти раньше, но Онуфрий посматривал на них как-то нехорошо, и пришлось остаться. Через девять дней Ласло подошёл к стражникам на воротах и низко им поклонился:
— Простите, добрые люди, если обидел чем. То не я говорил, а бес во мне. Спасибо старцу Амфилохию, изгнал окаянного.
Десятник посмотрел на него сочувственно, а знаток венгерского лишь одобрительно хекнул. Остальные стрельцы скользнули взглядом равнодушно и отвернулись. Когда брат Гийом и Ласло отошли от Сергиевой обители на несколько вёрст, венгр, отвернувшись от коадъютора и глядя на склонившиеся под тяжестью снега лапы высоченных раскидистых елей, сказал:
— А ведь он обо всём догадался.
— Почему? — удивился брат Гийом.
— Я ведь заснул, а кожу отравленную так и оставил на лавке. А когда проснулся, она лежала под заплаткой.
— Так ты сам её туда и засунул, — ответил коадъютор, — так бывает, когда человек в полудрёме что-то сделает, а потом не помнит.
— Нет, не так, — уверенно ответил Ласло. — И, брат Гийом, хорошо, что ты дал мне противоядие. Я ведь мог во сне коснуться отравы.
Коадъютор посмотрел на него, прищурившись:
— Запоминай, Ласло. Все мы каждый миг рискуем своей земной жизнью ради торжества святой католической церкви и ради жизни нашей будущей. Не было никакого противоядия, простая травка это — для успокоения сердца. Поэтому я и просил тебя быть осторожнее. Говорить не хотел, потому как опасался, что испугаешься ты. А пуганый всегда делает ошибок больше, чем бесстрашный. Помни об этом.
— Буду помнить, — ответил Ласло и добавил, снова глядя на еловые лапы: — А он ведь понял.
В тот день до самого ночлега они шли молча. Путь их лежал в Москву.
Глава восемнадцатая
В МОСКВЕ
Истома Шевригин так и не дождался от Андрея Щел-калова поручения. Он несколько месяцев просидел в Старице, скучая и набирая вес от обильной пищи и малой подвижности. Чтобы не толстеть, Шевригин стал ежедневно совершать конные прогулки и драться со стрельцами — не всерьёз, а дабы кровь молодецкую взбодрить. Когда начались переговоры в Яме Запольском, Щелкалов вызвал его к себе. Дьяк сидел за столом и строчил что-то на листе бумаги, окуная изредка гусиное перо в чернильницу. На столе перед ним лежал плотно набитый кожаный кисет.
— А, Истомушка, — обрадовался Щелкалов, откладывая перо и присыпая написанное песком, — садись, родной. Стосковался, поди, по семье-то?
— Стосковался, — подтвердил Шевригин, — два года не видел. Доченьки уж и забыли, наверное, отца.
— Ну-ну, слезу-то не дави, — дьяк указал на кисет, — это тебе за верную службу. Бери, заслужил.
Истома шагнул к столу и взял приятно звякнувший кожаный мешочек.
— Сотня золотых здесь, — сказал дьяк, — расщедрился Иван Васильевич. Езжай в Москву, семью порадуй.
— В Москву! — не сдержавшись от неожиданной радости, вскрикнул Истома.
— В неё, в неё, родимую. Езжай и сиди дома, из города не отлучайся. Как переговоры в Яме закончатся, все туда переберутся — и я, и посланники папские. Духовные лица соберутся. Про унию говорить будем. Ты ведь у нас теперь знаток римских нравов. Можешь пригодиться.
Истома уехал в тот же день. Письма с оказией он жене высылал уже несколько раз — пусть сама неграмотная, но отец её, что там же, в Истомином доме, живёт на время его отлучки, читать умеет. В избе же без мужика никак нельзя. Как же Истоме хотелось домой! Истосковалась, наверное, баба, да и дочки подросли. Гостинцев ждут. И тестя он не забыл — всем припас. Пусть не из Рима, но когда деньги есть — что угодно и в Москве купишь, и в Старице. Почти всё.
В Москву шли и брат Гийом с Ласло. В пути коадъютор простыл и захворал. Пришлось им остановиться в большом селе, не доходя до Москвы вёрст тридцать. Хорошо ещё, приютившие их хозяева не испугались ни чумы, ни оспы, ни холеры с лихорадкой — отвели пустующий хлев — живите, божьи странники! Благо хлев был перестроен из старой избы — печка в нём имелась. Там самые холода и переждали.
Брат Гийом знал, к кому обратиться в Москве. Давид, хоть и отнекивался вначале, отписал всё же своим людям, которые обещали пристроить Ласло при поварне Чудова монастыря, а брата Гийома — там же в богадельню. Уже было известно, что переговоры об унии будут проходить в Кремле — где ж ещё? — а обедать переговорщики где станут? Не в Новодевичий же ехать. Вот там, в Чудовом монастыре [184], что прямо в Кремле и стоит, и предстоит Ласло изловчиться и подсыпать яду в еду или питьё митрополиту Московскому и всея Руси Дионисию. А уж брат Гийом подберёт такой яд, который ни запахом, ни вкусом себя не выдаст. Уже подобрал. И мучиться митрополит не будет. Просто уснёт как-то — не на первую, так на вторую ночь после отравления, — и не проснётся. Или на третью. Что ж — так порой бывает и со здоровыми людьми, пути Господни неисповедимы. А дальше пусть уж Давид Ростовский сам со своими приспешниками склоняет царя к принятию унии.
Ехал в Москву Антонио Поссевино. Не повезло ему — в самую лютую стужу довелось трястись в открытых санях по заснеженным просторам Московского царства. Любящий тепло итальянец приказал каждые три дневных перехода делать двухдневную остановку, чтобы отогреться, выспаться и отдохнуть. Оказывается, при большом холоде даже просто оставаться вне дома — большой, утомительный труд. А ему ведь через пару лет уже пятьдесят будет. Ах, как далеко ласковая солнечная Италия!
Он уже написал в Старицу Стефану Дреноцкому и Микеле Мориено, чтобы тоже ехали в Москву. Опухшие от малоподвижной жизни вкупе с пьянством, они восприняли приказ Поссевино с великой радостью. Андрей Щелкалов не возражал, выделив им в охрану два десятка стрельцов. Да и выпроводил из Старицы — ещё до Истомы, велев в пути с селянами об унии не говорить. Впрочем, стрельцам был дан указ следить за послами латинскими — не очень-то тут поговоришь!
Съезжались по распоряжению митрополита Дионисия в Москву лица духовного звания — высшие церковные иерархи. Возглавляющие епархии епископы, архиепископы, святой жизни священники рангом пониже. Приехал и Давид Ростовский — с большой свитой, вольготно разместившейся в московской своей усадьбе. Давид по праву особо приближённого в тот же день отправился к царю, уже второй месяц находившемуся в глубоком трауре по нечаянно убитому царевичу Ивану. Царь, увидев его, прослезился и, поцеловав руку, припал к груди, уткнувшись носом в правое плечо архиепископа:
— Давид! Больше месяца нет душе покоя! Сын ведь, сын. После меня на трон сел бы! Самый разумный, самый толковый! И возрастом уже вышел! Сын ведь!