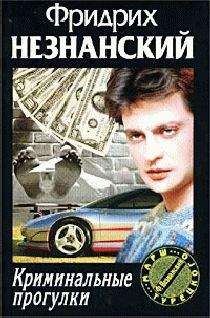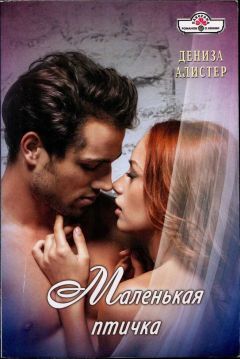Алексей Шеметов - Искупление: Повесть о Петре Кропоткине
— Голубушка, мне незачем скрывать свои знакомства, — сказал Петр Алексеевич. — Я живу и буду жить совершенно открыто.
В столовой был накрыт стол — две бутылки мадеры, ветчина, красная рыба, фрукты. И целая горка нарезанного белого хлеба!
— Он там, — сказала шепотом Марья Филипповна, показав на закрытую дверь гостиной, — Вздремнул, кажется.
Но тут дверь распахнулась, и в столовую вошел хозяин в оранжевом шелковом халате.
— Мир дому сему. — Олсуфьев поцеловал руку Софье Григорьевне, слегка обнял Петра Алексеевича. — Прошу к столу. Я спешу. Вот-вот за мной подкатит коляска из Обольяново. Известил телеграммой. Решил еще раз побывать в именье. Попрощаться. Переезжаю в Киев.
— Но там же немцы, — сказал Петр Алексеевич.
— А что, разве они хуже большевиков? — Олсуфьев налил в бокалы вина. — Лучше немцы, чем комиссары. Кстати, поклон вам от князя Евгения Трубецкого. Он уезжает в Добровольческую армию. За ваше благополучие, уважаемые социалисты… Что, в уезде тоже гражданская война?
— Да, в Рогачеве был мятеж.
— Нет, не удержаться Советской власти. К зиме поднимется вся деревенская Русь. Разверстка поднимет. Большевикам в России не царствовать. Никакого социализма вы не дождетесь, Петр Алексеевич. Русский народ его не примет. Наш народ рожден для монархии. Демократия ему чужда по его природе. Любую демократию какой-нибудь диктатор легко превратит в единовластие. Если французы это позволили, то русские — поготово. Русский человек шагу не может ступить без указания свыше. А уж ваш безгосударственный социализм, Петр Алексеевич, тотчас же обратился бы в хаос.
— Дмитрий Адамович, вы ведь спешите, не будем затевать затяжную дискуссию.
— Не будем, Петр Алексеевич. Я слишком вас уважаю, чтоб грубо вторгаться в ваши убеждения. Угощайтесь, угощайтесь, дорогие. Оробели, что ли? Вижу, вы тут голодаете. В кухонном шкафу — шаром покати. Москва тоже голодна. Но еще не все запасы выгребли большевики… Дом этот еще не конфискован?
— Пока не извещают нас, — сказала Софья Григорьевна.
— Вас не тронут. Дочь ваша на днях была в Совнаркоме. Говорила, кажется, с управляющим делами.
— Не утерпела все-таки, — качнул головой Петр Алексеевич.
Софья Григорьевна улыбнулась.
— Это же Саша! — сказала она. — Надо с вами рассчитаться, Дмитрий Адамович. За мебель, за корову.
— А, это все равно пропало бы, — отмахнулся Олсуфьев. — Я больше сюда не приеду. Именье, конечно, конфискуют. Не желаете ли побывать в Обольянове? Давайте прокатимся. К вечеру вас привезут сюда. Проедемся?
— Мы плохо себя чувствуем, — сказал Петр Алексеевич, — такая жара.
— Не хотите, значит. А напрасно. Обольяново — живописнейший уголок русской земли. Очаровательный, благотворный. Лев Николаевич, бывало, не раз приезжал лечить душевные раны. Покидал Москву и приезжал отдохнуть от борьбы с Софьей Андреевной. — Олсуфьев сходил в гостиную, принес коробку с сигарами, протянул ее Кропоткину.
— Спасибо, я уж лет десять не курю, — сказал Петр Алексеевич.
— Да, прекрасное было время, — продолжал Олсуфьев, закурив. — Эх, Обольяново, Обольяново! Запустела наша чудная обитель. Лев Николаевич сразу там духовно выздоравливал. Хорошо ему работалось у нас. За неделю однажды написал половину повести. «Ходите в свете, пока есть свет»… И вот уж нет этого света. Есть ад. Всероссийский ад.
В столовую вошла Марья Филипповна.
— Прибыла коляска, Дмитрий Адамович, — сказала она.
Олсуфьев встал.
— Прошу прощения, дорогие мои постояльцы. Вынужден вас оставить.
Он поспешил в гостиную и вскоре вышел оттуда в сюртуке и шляпе, с большим саквояжем.
— Прощайте, Петр Алексеевич. Прощайте, Софья Григорьевна. Теперь уж навсегда.
— Позвольте с вами расплатиться, — сказала Софья Григорьевна.
— А, что там…
— Нет-нет, я расплачусь. Присядьте, прикиньте, сколько мы должны уплатить.
Олсуфьев сел к столу, не сняв шляпы.
— Хорошо, подсчитаю, раз уж вы настаиваете на расчете. Что тут остается? Ну, мебель и вся посуда. Сколько это теперь стоит? Скажем, тысячи три. Рояль — две тысячи. Вы ведь музицируете, Петр Алексеевич. Пожалуйста, играйте. Что еще?
— Корова и телочка.
— Три тысячи.
— Несгораемый денежный шкаф. Может быть, вы его сейчас увезете? Нам он не нужен.
— И мне теперь не нужен. Дайте, пожалуйста, бумаги. Напишу расписку.
Софья Григорьевна тотчас принесла лист бумаги, чернила и перо. Олсуфьев торопливо начеркал расписку.
— Пожалуйста, Софья Григорьевна. За все — двенадцать тысяч семьсот рублей. Не дорого?
— Что вы, Дмитрий Адамович! При теперешней дороговизне это просто подарок.
Она принесла из своей комнаты целую кучу денежных пачек и положила их на стол. Олсуфьев смел деньги в саквояж.
Он уехал. Петр Алексеевич остался сконфуженным и недовольным этим барским визитом, разговором, щедрым угощением в голодное время, покупкой имущества у человека, убегающего к немцам, в гетманский Киев. А Софья Григорьевна, узнав о Сашином посещении Бонч-Бруевича и убедившись, что выселение теперь не грозит, была очень довольна и визитом, и дешевым приобретением добротного имущества, но она, хорошо зная мужа, стыдилась выказать свое довольство, однако он видел ее насквозь. И они натянуто молчали. Никогда еще не бывало между ними такого душевного разлада. Петр Алексеевич ушел в кабинет и лег на диван, чувствуя себя усталым, разбитым. На душе у него было мутно. Русское дворянство разбегается, думал он. Одни — к немцам в Киев, другие в Добровольческую армию, к Деникину, Краснову. Неужели Трубецкой, философ, не мог подняться выше классовых интересов? Не мог. Дом его конфисковали. Самого оставили в трех комнатах, но эта снисходительность, наверное, его шокировала. А ведь вел он себя лояльно, говорил осторожно. Вот кого надо бояться, товарищи исполкомовцы, — того, кто помалкивает, хитрит. А вы подозреваете в чем-то бывшего князя Кропоткина. Кропоткину незачем таиться. Кто искренне болеет за судьбу родины, тот говорит открыто, не скрывая своих мыслей, если они и расходятся со взглядами руководителей. Молчание — порок общества, ведущий к его застою… Да, разбегаются русские дворяне. Бегут от революции. А в прошлом веке, в семидесятых годах, молодое поколение шло в революционные кружки и общества. Шло, конечно, не все дворянское поколение, а те, чьи души пронзила совесть, кого охватила жажда искупления — искупления многовековой вины их тунеядствовавших предков. «Чайковцы» в большинстве своем были дворяне. Но с какой искренностью они отдавались революционному делу! Душевная чистота, истинное бескорыстие, готовность к самопожертвованию — вот чем жило все юное общество, эта дружная веселая община, противопоставившая себя мрачной нечаевщине. Дорогие друзья, братья, самоотверженные сестры, где вы? Отзовитесь. Нет, они не могут откликнуться. Соня Перовская повешена. Миша Куприянов, гениальный юнец, умер в Петропавловской крепости. Анатолий Сердюков, кому Клеменц предрекал судьбу великого революционера, сошел в тюрьме с ума и, высланный в Тверь под надзор, застрелился. Сергей Синегуб, голубоглазый красавец, революционный поэт, отбыл девять лет каторги и умер на поселении. Лариса Чемоданова, освобожденная им от домашнего заключения, стала его женой и повсюду добровольно следовала за мужем. Николай Чарушин тоже прошел по долгим годам каторги и поселения вместе с Анной Кувшинской, обвенчавшейся с ним в тюрьме. Где они теперь? Живы ли? Сергей Кравчинский, бесстрашный богатырь, революционный воин, повстанец, совершивший столько героических подвигов, написавший такие жаркие книги, был приговорен за участие в вооруженном восстании итальянских крестьян к смертной казни, но, амнистированный, нелепо погиб много лет спустя в Лондоне, попав под поезд. Его друг, артиллерист-поручик Рогачев, силач, разгибавший подковы и державший двухпудовые гири в вытянутых руках, умер на каторге. На каторге погиб и Орест Эдуардович Веймар, твой спаситель, друг многих тайных кружков, так и не вступавший ни в какую организацию, чтобы всегда оставаться абсолютно свободным. Его осудили за участие в покушениях, в которых он не участвовал. Револьверы, долго лежавшие в его кабинете на зеленом сукне, в конце концов попали в «решительные руки». Один оказался в руках Соловьева, и тот стрелял из него в Александра Второго. Купленный доктором вороной Варвар, умчавший тебя из тюрьмы Николаевского госпиталя, умчал через два года и Сергея Кравчинского, заколовшего кинжалом шефа жандармов Мезенцева. Кравчинский скрылся, а доктора Веймара упекли на каторгу, откуда он не вернулся. Сергей несколько раз уходил от прямой смерти, а погиб совершенно случайно. Из всех «чайковцев» только его одного пришлось хоронить, остальные гибли вдалеке. Нет, в Петербурге всем обществом хоронили Веру Корнилову, умершую от чахотки. Где ее сестры? Любы, говорят, нет в живых. Многих нет. Нет Дмитрия Клеменца, смешного, добрейшего Митеньки. Этот скрылся от следствия и Большого процесса. Полгода бродил с Сергеем по деревням, потом — Европа, сотрудничество в журналах «Вперед» и «Община». Вернувшись в Россию, редактировал «Землю и волю», за что и сослали в Сибирь. Полтора десятка лет путешествовал по Сибири и Центральной Азии как геолог и археолог. Завершил свою жизнь в Петербурге этнографом и антропологом. Три года не дожил до революции. Как бы он ее принял? Как бы ее приняли другие «чайковцы», если бы дожили? Чайковский, имя которого почему-то привилось обществу, февральскую принял, а от большевистской Октябрьской сбежал. Возглавил ныне в Архангельске контрреволюционное правительство. Каков зигзаг! Он вообще жил зигзагами, покладистый, всегда улыбчивый Николай Васильевич. От народничества кинулся в «богочеловечество», в Лондоне увлекся «Фондом Вольной русской прессы», потом примкнул к эсерам, потом отошел от всякой политики, а теперь с врагами. Во вражеский стан перебежал и Лев Тихомиров. В этом всегда боролись два совершенно противоположных чувства — жажда опасности и страх. Пропагандист, затем народоволец, член Исполнительного комитета, он полтора десятилетия жил под угрозой гибели и в конце концов не выдержал: спустя семь лет после казни главных народовольцев, будучи за границей, подал царю прошение о помиловании. Раскаялся. Вернувшись в Россию, объединился с Катковым и стал журналистом-монархистом. Что может быть вероломнее?