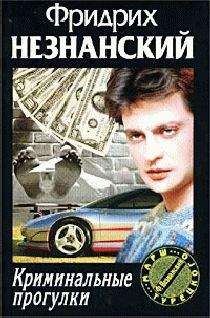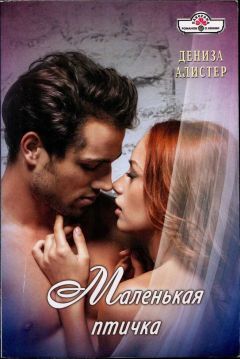Алексей Шеметов - Искупление: Повесть о Петре Кропоткине
В конце августа его пригласили на уездный съезд учителей, собравшийся в бывшей мужской гимназии. Едва вошел он в актовый зал, учителя встали и целую минуту приветствовали его овацией. Поклонившись, он стоял у двери со шляпой в руке. Потом подошел к ближнему ряду и сел на крайнее свободное место. Но председательствующая женщина, молодая, подстриженная, в мужской рубашке, с портупеей через плечо, с красным бантом на груди, сразу предоставила ему слово.
— Петр Алексеевич, — сказала она, — мы не хотим отнимать у вас много времени. Желали бы только выслушать вас, узнать ваше мнение о новой системе образования.
Он легко взбежал по ступенькам на помост и подошел к кафедре. Как всегда, он написал свою речь, но, как всегда, читать ее не собирался.
— Товарищи и друзья! — начал он негромко. — Позвольте прежде всего поблагодарить вас за любезное приглашение. Ваш съезд, посвященный новой системе народного образования, имеет ныне огромное значение, и я с удовольствием выскажу некоторые свои соображения. Во-первых, я от всей души приветствую реформу школы. Гимназия, зародившаяся еще в Древней Греции и просуществовавшая много веков, отныне в нашей республике упраздняется. Она служила привилегированным классам, но революция положила конец всякой классовой привилегированности. Перед вами, товарищи учителя, встает величайшая задача — воспитание растущего поколения, то есть формирование нового, свободного человека, и от вас будет зависеть его любовь к родине, свободе и труду, его нетерпимость к слепой покорности, несправедливости, ко всяческой лжи. Революция открывает перед вами работу, важнее которой, пожалуй, и не сыскать. Мы все много читали о прошлых революциях, хорошо знаем их драматические события, подробно описанные историками. Но мы почти не знакомы с революционной работой прошлого. Борьба на улицах скоро заканчивается. Но именно после победы народа и даже во время его битв начинается длительная революционная работа, определяющая судьбу народа, совершившего революцию. Вам, учителям, предстоит перестроить народное образование на новых началах — самую суть образования и его приемы. За перестройку преподавания естественных наук опасаться, пожалуй, нечего. В этом есть опыт. Есть и новые начинания. Как разумно отнеслись к своему делу сотрудницы нашего местного музея, в какой интересной и поучительной форме они сумели представить собранный материал! Такие музеи у нас появятся во всех городах, и они будут неоценимым подспорьем для преподавания истории земли и растительного мира. Но вот где начнутся ваши трудности — в преподавании истории человеческих обществ. Вам придется заново изучать развитие этих обществ от каменного века до нашей революции. Заново, потому что учебники, которыми пользовались гимназии и училища, оказались страшно далеки от современной науки, от новых открытий и разработок в антропологии, социологии и истории. Вам придется вырабатывать в себе творческое отношение к наукам. Строить жизнь надо снизу, а если все будем надеяться на указания сверху, неизбежно окоченеем в бюрократии.
И тут Петр Алексеевич «вскочил на своего конька», как сказала бы Софья Григорьевна. Он заговорил о личном почине, об этом главном двигателе новой социалистической жизни. Говорил горячо и долго. Если в обществе открывается простор личному почину, оно будет развиваться и совершенствоваться, но если личной инициативе станет тесно, никакого развития нельзя ожидать.
— Мне вспомнилась чья-то замечательная мысль, — говорил он. — «Если творчеству тягостно в вашем здании, значит, допущена ошибка в построении. Перекладывайте стены, пока созидательный дух не обретет свободу». Это сказано о творчестве, а личный свободный почин и есть творчество. Как бы скромно ни было свободно начатое вами дело, будь то изучение местного промысла, или геологическое исследование родного края, или агрономическое освоение учениками участка земли, оно, это дело, принесет свои плоды, если в него будут вложены добрые намерения, настойчивость и, главное, творческое горение.
На этом он и закончил свою речь, и зал опять поднялся, разразившись громом овации.
— Петр Алексеевич, разрешите отпечатать ваше выступление в кооперативной типографии, — сказала, встав за столом, председательствующая.
Он подал ей тетрадку.
— Пожалуйста, но этот текст не совсем совпадает с тем, что я тут говорил.
— Тем лучше, — сказала председательствующая, — текст дополнит вашу речь.
Петр Алексеевич спустился в зал и сел в первый ряд, на место, к которому его пригласил молодой человек в красноармейской гимнастерке.
Один за другим учителя поднимались на помост к кафедре. Петр Алексеевич слушал их с радостной заинтересованностью, убеждаясь, что почти все они, за исключением старых педагогов, неохотно расстающихся с гимназической системой образования, удивительно верно понимают задачи новой школы. Он думал о том, что именно молодые учителя, так решительно идущие в новую жизнь, хорошо воспримут и поймут его «Этику», что именно они могут знакомить с ней растущее поколение, кому принадлежит строительство социализма.
После съезда он сел за «Этику» с новым приливом сил. Три дня он работал с утра до позднего вечера, выходя лишь на один час погулять в городском парке. И вдруг его ошеломили два опаснейших события — покушение на Ленина в Москве и убийство Урицкого в Петрограде. Ленина Петр Алексеевич знал лично. Он видел его десяток раз в девятьсот седьмом году в Лондоне, в церкви Братства, где проходил съезд РСДРП, на который были приглашены как гости Горький и он, Кропоткин. Еще тогда, слушая Ленина, с разящей силой полемизирующего с меньшевиками, он признал в нем великого революционера и лучшего вождя из социал-демократических лидеров. И ныне он, глашатай безвластия, считал, что, пока Ленин стоит во главе правительства, большевики доведут революцию до конца, не допустив захвата власти какой-либо узкой политической группой. Именно на Ленина он в этом надеялся. И этого человека заговорщики вывели из строя!
Тревожило Петра Алексеевича и другое. Два покушения в один день явно давали понять, что эсеры (вероятно, это их дело, как и июньское убийство Володарского) переходят к открытому контрреволюционному террору, который, конечно, не мог остаться без ответных мер Советской власти. Автор «Великой Французской революции», хорошо знающий, к чему в это время привел террор, серьезно опасался, как бы и большевики не повторили ошибок прошлого. Надо поговорить с Лениным.
И он стал ждать выздоровления Председателя Совнаркома.
Ждал десять дней. Вечером семнадцатого сентября, торопливо просматривая «Известия», он нашел ожидаемые строки. Очень короткие. «Нам сообщают, что здоровье товарища Ленина настолько улучшилось, что вчера, 18 сентября, Владимир Ильич впервые принял участие в заседании ЦК РКП».
Он тут же, отложив газету, написал Владимиру Ильичу письмо. Сам отнес его на почту, не доверяя жене (Софья Григорьевна не хотела, чтоб он вмешивался в государственные дела). Он даже не сказал ей, что отправил свое послание.
У него не хватало терпения ждать. Страшно медленно шли мокрые осенние дни. Он коротал их с трудом. Садился писать, но мысли его уносились в Москву. Вставал и ходил из комнаты в комнату в раздумье. Вызовет ли его Председатель Совнаркома? Примет ли? Трудно Ленину урвать время для разговора. Но отказать он не должен. Да, он резко критикует анархические идеи. Да, он не раз нападал на твой шовинизм, усмотренный им в статьях, публиковавшихся в «Русских ведомостях». Ладно, пускай отношение Кропоткина к войне с Германией было ошибочным. Допустим, что Кропоткин ошибался и во многом другом. Но разве он не внес свой вклад в революцию? Неужто все забыто?
И однажды он спросил жену:
— Соня… допускаешь ли ты, что все мое прошлое теперь в России зачеркнуто? Я послал в Совнарком письмо. Ленину. Как полагаешь, вызовет?
— Петруша, милый, ты-то ведь знаешь свои революционные заслуги. Зачем тебе беспокоиться о том, что о тебе думают в Совнаркоме?
— Я не о себе, Соня. Мне нужна встреча с Лениным. Хочу о многом поговорить.
— Лучше поговори о том, как к тебе относится дмитровская власть…
В первый морозный осенний день Петр Алексеевич получил приглашение Совнаркома.
Софья Григорьевна проводила его до платформы вокзала. Она видела, как его стиснула хлынувшая к вагону многолюдная суматошная толпа, как он, невысокий, сразу затерялся в ней, как из нее вынырнул, взбираясь на подножки, как потом появился у окна, притиснутый к нему той же толпой. Она видела широкую белую бороду, прижатую к стеклу, видела грустно улыбающееся лицо, и ее пронзила жалость к этому милому, бесконечно родному старичку, едущему в такой ужасной тесноте к суровым большевикам, к их вождю, сраженному недавно вражеской пулей, от которой, вероятно, еще не совсем зажила его рана.