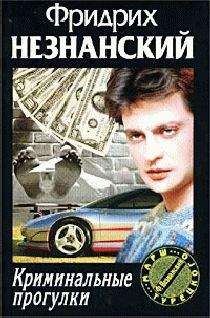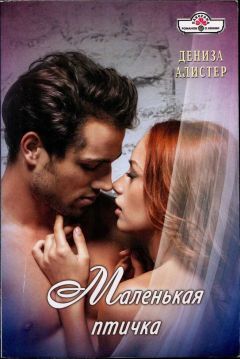Алексей Шеметов - Искупление: Повесть о Петре Кропоткине
В начале февраля приехал бывший военный министр Временного правительства Верховский, числившийся еще недавно в рядах врагов. Он нагрянул в час домашнего концерта: в гостиной пела русские песни артистка Евдокия Денисова (она познакомилась с Кропоткиным в Лондоне во время своих английских гастролей). Петр Алексеевич принял неожиданного посетителя в кабинете.
— Чем могу служить?
— Хочу с вами посоветоваться, Петр Алексеевич. Я недавно вышел из тюрьмы. Сидел не за то, что был военным министром. Я ушел в отставку за несколько дней до свержения правительства. Арестовали меня только в июне минувшего года за участие в эсеровском заговоре. Да, я состоял в эсеровской заговорческой организации. Но меня, военного, скрытая борьба не увлекала. И я сомневался, нужна ли эта борьба. Она тяготила меня. Я был на распутье. И знаете, арест принял даже с некоторым облегчением. Сказал себе: «Ныне отпущаеши». Дзержинский долго со мной говорил, потом предложил мне помочь строить Красную армию. Я, конечно, не мог тут же согласиться. В тюрьме много думал. Недавно дал согласие.
— Так о чем же вы хотите посоветоваться?
— Меня что-то смущает. Не то, что я, бывший офицер русской армии, поступаю в Красную армию, а то, что вступаю после тюрьмы. Не выглядит ли это так, что я спасаю свою личную жизнь?
— Почему вы решили поговорить об этом именно со мной?
— Я ведь тоже был камер-пажом, Петр Алексеевич. После кровавого события девятого января меня выгнали. За возмущение. Выгнали и заклеймили вашим именем. Я остался горд этим проклятием, потому что перед тем познакомился с одной из ваших книг на английском. А в тюрьме ныне прочел «Великую Французскую революцию». Знаете, она сильно меня встряхнула.
Петр Алексеевич внимательно всмотрелся в лицо Верховского, еще совсем молодое, с пушистыми офицерскими усиками.
— Я вас видел, кажется, на Государственном совещании. Вы были в военном мундире. Сидели в ложе. Да?
— Да, в ложе, только не в той, где сидели Корнилов и Каледин, не в императорской, а под ней. Я тогда командовал Московским округом и с Корниловым в сговоре не был.
— Да разве я вас подозреваю? — улыбнулся Петр Алексеевич.
— Я предупреждал Корнилова, когда он приехал на совещание. Вы, должно быть, знаете, как его встречали в Москве?
— Не видел, не имел чести.
— Встреча была прямо-таки царская. Оркестр, строй георгиевских кавалеров, рота юнкеров, рота женского батальона, толпа дам с цветами. Я задержал верховного на перроне, предложил вернуться в вагон и там сказал ему, что при малейшей попытке переворота дам приказ войскам Московского округа выступить против мятежа. После совещания я ездил в ставку и еще раз предупредил Корнилова. Предотвратить мятеж, однако, не удалось.
— Александр Иванович, пусть вас не смущает, что идете в Красную армию из тюрьмы, — сказал Петр Алексеевич. — Решение верное и честное. Что я мог бы посоветовать? Всеми силами и помыслами защищать революцию. Она и только она борется за великую мечту народа, за его свободу. — И он заговорил о том, какое значение имеет пролетарская революция для человечества, которое рано или поздно, но непременно придет к безгосударственному коммунистическому строю.
Верховский слушал его, смотрел на этого белого старца, чистого, светлого, душевно насквозь открытого, и думал, что и в самом деле, если бы все люди были такие, как он, можно было бы уже завтра упразднить государство.
Петр Алексеевич пригласил Александра Ивановича в гостиную, но тот вдруг заспешил, сказав, что должен успеть к поезду, отправляющемуся в Москву…
А через два дня Петр Алексеевич беседовал с человеком, приехавшим от Ленина, — работником Наркомата внешней торговли Мильнером.
— Владимир Ильич предлагает издать четыре тома ваших сочинений.
— Четыре тома? Весьма и весьма интересно. Что же он выбрал?
— «Великую Французскую революцию», «Записки революционера», «Поля, фабрики и мастерские» и… — Мильнер вынул из кармана записную книжку, — и «Взаимную помощь как фактор эволюции».
— Я рад, что Ленин находит нужным опубликовать эти вещи, но согласиться на предложение не могу. Издание-то государственное, а я «безгосударственник». Вот если бы нашлось кооперативное издательство.
— Не знаю, есть ли таковое… Петр Алексеевич, а не смогли бы вы приехать в Москву?
— Хочется. Мне надо посидеть в Румянцевской библиотеке, но очень уж тяжела ныне дорога. Для нас, стариков.
Толковали, толковали, как быть, и договорились, что Мильнер поговорит с Владимиром Ильичем и затем известит Петра Алексеевича письмом.
Письмо вскоре пришло, но в нем не оказалось ни слова о кооперативном издании. Это, однако, не огорчило Петра Алексеевича. Его занимала сейчас новая книга, а не переиздание старых. Раз в Советской России интересуются «Взаимной помощью», значит, найдет хороший прием и «Этика», думал он.
Хотя в доме по-прежнему гостили друзья и знакомые, Петр Алексеевич отдавался разговорам лишь тогда, когда выходил из кабинета в столовую. Позавтракав или пообедав, он тут же уходил работать. Но однажды, встав с рабочего стула, он вдруг покачнулся, схватился, чтоб не упасть, за книжную полку и долго стоял, ничего не видя, кроме мелькающих во тьме искр. Переждав, пока в кабинете не посветлело, он опустился на диван. И тут ощутил острую боль в беспорядочно бьющемся сердце. Нет, «Этику» не закончить, подумал он.
Об этом серьезном предупреждении своего сердца он ничего не сказал Софье Григорьевне, чтоб ее не тревожить и чтоб она не отлучила его на время от работы. Он втайне начал писать наставление, как распорядиться его рукописью. Пусть он не закончит книгу, но, может быть, найдется кто-нибудь из его близких друзей, кому удастся разобраться в рукописи и продолжить работу. Если труд останется незавершенным, он пригодится кому-нибудь как материал для разработки новой реальной этики, свободной от религии и от всякой абстракции (наподобие кантовского нравственного императива), твердо основанной на природном законе взаимной помощи.
Сердце, однако, больше не давало о себе знать, и Петр Алексеевич опять обрел надежду на завершение своего труда, а наставление все-таки продолжал понемногу писать.
В конце апреля пришло письмо от Бонч-Бруевича.
«Дорогой Петр Алексеевич,
Я слышал от тов. Мильнера, что Вы собираетесь приехать в Москву. Как бы это было хорошо! Владимир Ильич, который шлет Вам привет, говорил мне, что очень был бы рад с Вами повидаться. Если соберетесь в Москву, телеграфируйте, чтобы знать, когда Вы приедете, — мне тоже хотелось бы с Вами повидаться».
— А что, Соня, надо мне поехать, — сказал Петр Алексеевич.
— И я с тобой, — сказала Софья Григорьевна.
Они послали телеграмму в Москву. Бонч-Бруевич вскоре сообщил, что Владимир Ильич распорядился предоставить им отдельное купе в вагоне первого класса. И через три дня они ехали в Москву, как не езжали, кажется, даже в Европе. Поезд на станциях осаждали яростные толпы, как орды крепость. Петр Алексеевич смотрел в окно, болезненно морщился. «Стыдно сидеть вдвоем в таком купе, когда вон что творится, — говорил он. — Отрицатели власти, а едем под покровительством таковой». — «Дорогой мой, не будь слишком щепетильным, — успокаивала жена. — С такой щепетильностью не выживешь в нынешнем хаосе». — «Я не хочу никакой привилегии». — «Это не привилегия. Просто оберегают старика, чтоб живым привезти в Совнарком». — «Нет, я не могу. Приведу людей из другого вагона, хоть немного разряжу там тесноту. — Он вскочил и вышел в коридор. Но минут через пять вернулся один, разгневанный. — Это не кондуктор, а столб! Не прошибешь. Приказано, видишь ли, никого не впускать в купе. Вот она, власть. Ни шагу в сторону. Приказано — и все тут». — Он сел, насупился и до самой Москвы молчал. И не глядел в окно.
В Москве они остановились в Леонтьевском переулке, в маленькой, чистенькой квартире Раи Выдриной, близкой знакомой. Петр Алексеевич сразу известил по телефону Бонч-Бруевича, и тот сейчас же приехал повидаться с «дмитровским отшельником». Петр Алексеевич видел его год назад. За этот тяжелый год заметно постарел и сдал Владимир Дмитриевич. Глаза, прежде такие искристые, смотрели из-под очков устало. Бородка, раньше такая ухоженная, выглядела как-то растрепанно. Он расспросил Петра Алексеевича о его дмитровской жизни, о работе над «Этикой».
— Книга ваша просто необходима, — сказал он. — Сейчас такая сумятица в этических воззрениях. Многие блуждают, особенно те молодые революционеры, которые не успели хорошо ознакомиться с коммунистическими учениями. Появляются какие-то неонигилисты. Отвергают любовь, благородство, родственную привязанность. Это все, мол, старье. Замахиваются на искусство прошлого… Я знаю вашу «Взаимную помощь» и с нетерпением жду продолжение — «Этику». Пишите. Если есть трудности — поможем.