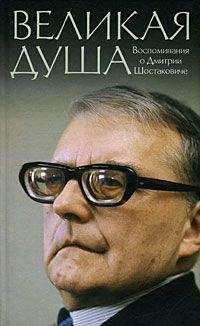Охота на либерею - Федоров Михаил Иванович
— Почему же не помогли?
И без того чёрное от сажи лицо старика потемнело ещё сильнее:
— Я так думаю, без измены не обошлось. Не может же быть, чтобы сотня стрельцов со всеми боевыми припасами — да не отразила бы окаянных.
— Что ты можешь сказать об измене, старик?
Сухарев подошёл поближе:
— У нас тут многие татарскую речь разумеют. И я тоже.
— Татары о чём-то говорили? Их кто-то привёл?
— Никто их не привёл. Сами пришли. Решили перед тем, как к Москве идти, пограбить маленькие городки, вот и пришли. Мурза их своевольничал, вот и не пошли прямо в Москву.
— Это они меж собой говорили?
— Да. Я ведь всё понимаю. У меня дед — крещёный татарин. А я русский.
— Что они ещё говорили?
Старик перешёл на шёпот:
— Дело совсем уж нечистое.
— Говори.
— Когда татары пришли на двор к Чердынцеву, там уже все мёртвые были.
— Мёртвые? Кто же их убил?
— Неизвестно. Только не было на стрельцах никаких ран — ни стреляных, ни колотых, ни рубленых. Неясно, отчего погибли. И сам хозяин дома был мёртвым, и все его слуги. Только один живой там оказался.
— Кто это был, старик?
— О том татары не говорили. Сказали только, что молодой. Говорят, пришли на двор, а там стрельцы все вповалку, мёртвые, и только этот молодой в чёрном кафтане — живой.
Осип глянул на Микулинского:
— Он это. Больше некому. Стрельцы все в красном были.
— Что потом стало с этим молодым, в чёрном кафтане? — спросил боярин.
— Всех, всех убили. И в городе всех, в полон никого не брали. Только я и спрятался в подполе, больше никто.
— Где обоз, что стрельцы охраняли?
— Город сгорел. Тут разве какой обоз уцелеет?
— Всё ясно, боярин, — сказал Осип, — ничего уже не поделать. Надо уходить.
— Пойдём, старик, к дому Чердынцева, — произнёс Микулинский, — глянем, что там.
Оставив десять человек в поле наблюдать, чтобы не было внезапного нападения, боярин с остальными стрельцами направился на пепелище. Егорка из любопытства увязался следом, да его никто и не гнал.
— Каменные дома и в Москве — редкость, — произнёс боярин, — а тут, в пограничье, в маленьком городке. Откуда?
— Не знаю, — ответил старик, — да только, сколько себя помню, дом уже стоял. Говорят, то ли дед, то ли прадед Афанасия его ставил.
Они прошлись по двору. При каждом шаге в воздух поднималось облачко пепла. Однако тел погибших видно не было.
— Где стрельцы-то? — спросил Осип.
— Там, у Басурманки, — ответил старик, — похоронил я их. Только отходную читать некому было.
— Как же ты один перетащил столько покойников?
— Люди добрые помогли.
— Какие люди?
— Не знаю.
— И где они?
— Ушли.
— Куда ушли?
— Не знаю.
— Что-то ты темнишь, старик.
— Зачем мне обманывать? Люди мне помогли, а о том, кто они да куда, да откуда, я и не спрашивал. Не хотят говорить. Разбойники, наверное.
Боярин поднялся на крыльцо. Вход в дом был завален обгорелыми стропилами и остатками тёса. Стрельцы попытались вытащить упавший наискось брус, перегородивший вход в дом, но не смогли. От жара его повело и прочно заклинило в проёме, выложенном крупными тёсаными камнями.
— Разбирать будем — наверняка ещё мертвяков найдём, — сказал старик, — помогли бы похоронить.
— От смоленского воеводы придут люди — они и помогут, — ответил боярин, — а мы уходим.
— Ещё и городок отстроят и новыми людьми заселят, — сказал Осип, — дом уж больно хорош, такой бросать нельзя. Да и городок здесь нужен, смотри, ещё и войск прибавят.
— Постойте, не уходите, — остановил их старик, — забыл вам сразу сказать.
— Так говори сейчас.
— Когда татары ушли, поляки приходили.
— Что?!! — удивился боярин.
— Приходили, покрутились немного, как будто искали кого, и ушли. Меня не заметили.
— Это всё?
— Теперь всё.
Осип снял со спины котомку с сырными шариками, зачерпнул горстью, протянул старику:
— Держи. На какое-то время хватит, а там и от воеводы помощь подоспеет.
Старик принял от него сыр, благодарно склонив голову.
— Пора, Осип, — сказал Микулинский. — Всех голодных не накормишь. Думаю, сегодня-завтра придут от смоленского воеводы.
Вскоре отряд уже шёл в сторону леса. Солнце только-только перевалило за полдень, и было жарко. Стрельцы распахнули кафтаны, спасаясь от зноя. А Егорка свой совсем снял и с сожалением посмотрел на него. Подарок отца Алексия совсем износился. А ведь осень скоро.
— Что думаешь, Осип? — спросил Микулинский.
— Даже не знаю, боярин, — ответил тот, — неясно тут всё. А почему так получилось, мы и не узнаем никогда. Великая тайна.
— Тайна, — согласился боярин. — Жаль, большая ценность сгинула. Знатная была либерея.
Дальше поехали молча. Перед тем как отряд нырнул в чащу, Егорка оглянулся. Маленькая фигурка человека едва виднелась на фоне пожарища, но было заметно, что старик машет им вслед на прощание правой рукой. В левой он держал подаренный Осипом сыр.
На ближайшем привале Егорка почувствовал озноб. Укутавшись получше, он ночевал поближе к костру, но легче ему не стало. Правда, болезнь пришла не сразу. Два следующих дня он скакал вместе со всеми, чувствуя лёгкое недомогание. Ему бы отлежаться в тепле, в пути ведь болеть нельзя. Но не хотел Егорка из-за своей хвори останавливать отряд. Сам виноват: напросился с боярином, да не выдержал с непривычки тяжёлого перехода. Осип первым заметил, что он болен. Подъехал и втайне от других спросил:
— Продержишься? До Москвы ещё два дня хорошего пути.
Егорка кивнул в ответ головой. Но молчаливого обещания своего не сдержал. Когда до Москвы оставался один дневной переход, он свалился в горячке. Хорошо хоть, на ночлег остановились в деревушке, до которой татары дойти не успели. Все избы стояли целыми, а живность в округе исправно мяукала, мычала да кудахтала.
Микулинский выбрал лучшую избу, велев хозяевам позаботиться о больном, и наутро отряд ушёл. Дальнейшее Егорка разбирал плохо. Помнил, как поили его горячим молоком из большой коричневой крынки, как укутывали во что-то тёплое. Чьи-то дрожащие руки подавали ему горький отвар душистых трав. Наваливалось чёрное беспамятство, мучили удушливые кошмары, и часто было невозможно разобраться, где заканчивается сон и начинается явь. Так продолжалось не день и не два. Неделя, а то и больше. Егорка так обессилел, что едва шевелил руками и ногами. Он с трудом поднимал голову, чтобы выпить целебного отвара.
И после всего этого как будто из ниоткуда — звонкий знакомый крик:
— Егорушка, братик мой любимый!
Над ним склонилось родное лицо в расшитой жемчугом богатой кике [131]. Дашутка! Но почему она так одета? Плачет, обнимая Егорку:
— Не бойся, братик. Сейчас поедем к хорошему лекарю, и тебя вылечат.
Рядом появляется молодой боярин в сафьяновых сапогах и чёрном кафтане:
— Дашенька, солнце моё, не плачь. Лошади уж готовы, завтра будем в Москве.
Потом долгая тряска на телеге, снова беспамятство, на этот раз не чёрное, а целебное и мягкая перина под невысоким деревянным потолком. Окошки со слюдой, серебряная посуда, снова лицо сестры, рядом с ней — царский лекарь Данил.
— Дашутка, где я?
— Ты у меня дома, братик.
— А… ты замужем, — едва слышно прошептал Егорка. Как же так? Сестра вышла замуж, а он даже на её свадьбе не был. — Как тебя теперь зовут?
— Боярыня Бутурлина, Егорушка.
Егорка слабо улыбнулся:
— Не зря, выходит, тебя в обители боярин обхаживал.
— Тихо, тихо, братик. Ослаб ты сильно, а через разговор и последние силы уйдут.
Лекарь помог ему сесть в кровати и влил в рот пряный отвар. В голове загудело.
— Завтра будет лучше, — сказал Данил. — Выздоравливай, а я буду каждый день приезжать.
Егорка, проводив его взглядом, погрузился в сон. Впервые с того момента, как захворал, спал он спокойно, а когда проснулся на следующий день, первое, что увидел — глаза сестры. Дашутка сидела рядом с кроватью на резном стульчике и лукаво глядела на брата.