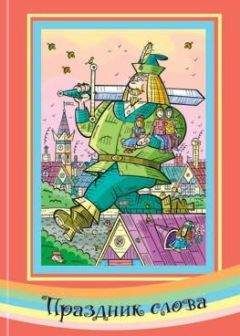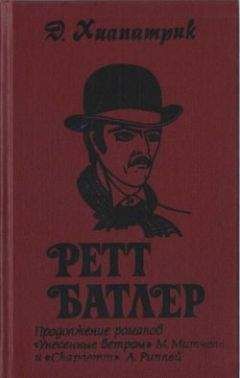Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
После ареста Нишу избили до полусмерти. Но, выйдя из тюремной больницы, он уверял, что теперь все более-менее нормально – синяки пожелтели, а одна добрая русская женщина устроила его утюжить немецкую униформу по ночам.
Вот только ему очень одиноко в лагере. Для соседей по бараку он чужак, Russe из Москвы. И еще он все время голоден из-за своей ночной работы. К счастью, у него в кармане лежит хлеб, который передала Анна. Он отщипывает от него кусочек за кусочком. Ест и жалеет. Ночь впереди длинная… Отглаженные им брюки аккуратно перекинуты через спинки стульев, рядом лежит гора неглаженых. Она уменьшается медленно, а хлеб в кармане – до обидного быстро.
На груди у него желтеет лата с шестиконечной звездой, и ему трудно не думать о том, что на днях опять собирают «транспорт»: новая партия заключенных будет отправлена в печку. Ведь он тоже кандидат на уничтожение.
В кабинете начальника полиции порядка рядом с телефонным справочником стоял флакон жидкости для ращения густых усов. На стене висели портреты: Гитлера, какого-то свирепого полицейского генерала и Геринга, который в своих драгоценных камнях был похож на нарумяненную кокотку.
Под портретами сидел сам рыжий усатый гауптвахмистр. Пекарская пришла к нему не одна. Она привела с собой пожилых циркачей. Это был последний шанс спасти Полотова.
Анна начала с легенды, которая помогла в Вязьме.
– Он из донских казаков, он не еврей. Господи, как там…
Она сбилась, но сразу взяла себя в руки.
– Просто ему в детстве сделали операцию… Ну, по медицинским показаниям…
Теперь настал черед пожилой пары.
– Да-да, она правду говорит, – закивала седеющая полненькая циркачка. – Мы подтверждаем.
И зачем-то добавила по-русски:
– Мы сами тоже с Ростова!
А ее муж решительно произнес на своем ужасном немецком:
– Данила Полотов, он – супруг фрау Пекарской, и он русский! Мы знали его мать, бабку и деда. Все чисто русские люди.
Гауптвахмистр слушал, трогая свои рыжие прусские усы и переставляя предметы на массивном письменном столе. В его руках побывали костяной ножик для разрезания бумаг, хрустальная печатка, медный колокольчик. Наконец он, нахмурившись, макнул ручку в солидную чернильницу из желтоватого камня, стал что-то писать на листке поданного ему прошения.
– Как же мне надоели эти свиньи.
Это, конечно, касалось всех русских. Артисты, развлекающие людей второго сорта, сами не могли считаться первым. Но, если честно, он просто устал от этой неудачной войны, из-за которой его уютный и благоустроенный мир сейчас летел в тартарары.
За окнами зазвучала сирена воздушной тревоги. Гауптвахмистр вскочил, стал быстро складывать бумаги. Он сделал русским знак, приказывая убираться.
– Вашего казака выпустят завтра!
По улице со всех сторон бежали люди – с чемоданами, рюкзаками или совсем без вещей. Все торопились к входу в бомбоубежище, буквы LSR над ним обещали спасение.
– Luftgetahr fünfzehn! – кричали берлинцы друг другу.
Воздушная тревога номер пятнадцать означала самый опасный налет, не менее тысячи машин. Скорее всего, ковровый.
На бегу Анна возбужденно сказала своим спутникам:
– Счастье, что они еврея от донского казака отличить не могут!
– Им сейчас не до этого! – задыхаясь, ответил пожилой циркач.
В бомбоубежище было полно народа. Те, кто пришел первым, примостились вдоль выкрашенных люминесцентной краской стен. Остальные устроились как попало на сыром полу. Предусмотрительные немцы принесли с собой термосы с чаем, бутерброды. Мужчины держали ломы и лопаты. Дети прижимали к себе книги и игрушки.
Мальчик лет шести играл автомобильчиком. Рядом сидела его бабуля в военной каске. Она была похожа на пожилую валькирию, не хватало только крылышек на шлеме. Бабушка притянула к себе внука, чтобы воткнуть в его уши по комочку ваты.
– Эрих, не крутись!
Он и не сопротивлялся – давно привык к процедуре.
Ответственный за порядок однорукий инвалид со значком за ранение деловито размещал прибывающих. У него нашлось время горько пошутить, показывая на свой обрубок:
– Это подарок мне от партии!
Последними в убежище робко протиснулись две испуганные девочки. Они надеялись переждать бомбежку недалеко от входа.
Эрих с ватками в ушах сразу опознал в них русских. Он отложил свой автомобильчик, достал из кармана рогатку и деловито встал наизготовку, собираясь пульнуть в остовок.
Валькирия забеспокоилась.
– Эрих! Подойди сюда!
Мальчик не услышал, ему помешали ватки. Тогда бабушка встала и потянула внука за руку. Эрих не унимался: пульнуть не удалось, зато можно было пострелять, вообразив рогатку ружьем.
– Пиф! Паф!
Он мечтал стать настоящим солдатом.
Ответственный инвалид только теперь обратил внимание на славянских девочек и замахал своей единственной рукой, выметая их наружу.
– Raus! Raus! Шнелле!
Остовки, съежившись, побрели под бомбы.
В убежище царила атмосфера фатализма и истерики. Немцы возбужденно разговаривали, то и дело раздавался громкий хохот.
– Не пойму, чего они так веселятся, – прошептала пожилая циркачка.
– Они шутят, что буквы «LSR» теперь надо расшифровывать как «учи скорее русский», – тоже шепотом объяснила Анна. – Еще говорят, что англичане не лучше русских… Что бедные немцы не заслужили такой жестокости.
– Поздно язык учить собрались, сволочи, – одними губами произнес пожилой циркач.
Раздался звук падающей бомбы. Воздух в бомбоубежище сразу стал густым. Ударив плотной волной, он причинил боль. Людям показалось, что у них лопнули перепонки. Пекарская и ее спутники зажали уши. Закачались лампы на потолке, женщины закричали, дети заплакали.
Инвалид успокаивал всех.
– Не паникуйте. Наша третья танковая армия скоро сомкнет фронт…
Его горло сжали нервные спазмы, и он издал страдальческий птичий звук. Откашлявшись для приличия, инвалид пообещал:
– Мы будем спасены! Это мудрая стратегия фюрера!
Но от той третьей танковой армии уже немного оставалось. Русские лишили ее возможности защищать Берлин и теперь успешно добивали. Возглавлял войска маршал Рокоссовский. Он вместе с маршалами Коневым и Жуковым решал сейчас судьбу Берлинской наступательной операции. Рокоссовский до конца выполнил клятву, данную в Вязьме маленькой девочке с черненькой челкой.
Небо было все исчерчено белыми полосами. Они медленно таяли, становясь шире и бледнее. Вдалеке раздавались взрывы, от них вздрагивала земля. Обгоревшие деревья тянули вверх свои обугленные ветви, словно моля о пощаде. Но на некоторых уже зеленели листочки – жизнь и весна брали свое.
Анна и Полотов с чемоданами и рюкзаками брели по Берлину. Вернее, по тому, что от него осталось. Улица казалась переломанным гигантским скелетом с торчащими, как ребра, трубами.
Везде были взорванные машины и разбитая техника. Рядом с искореженными рельсами лежал опрокинутый трамвай. А в доме, который был разрушен не полностью, в комнате без наружной стены женщина встряхивала пыльные шторы и простыни, аккуратно развешивая их на стульях. В обнажившемся нутре ее жилья даже виднелись следы уюта.
Руины пахли сырой штукатуркой. Горожане, стараясь держаться подальше от их опасного соседства, везли свое имущество на велосипедах или в детских колясках, тащили тюки. Шли здоровые люди, и еле ползли инвалиды: безглазые, безрукие, безногие на колясках с ручным управлением или с костылями, которые были ремнями привязаны к рукам.
Одна старуха упала на землю. Она лежала рядом со своим мешком и часто дышала. Толпа обтекала ее. Люди охали, рябь сочувствия пробегала по лицам, но все продолжали движение.
Пекарская и Полотов склонились над несчастной. Женщина застонала. У нее были высохшие губы и острый подбородок с белыми волосками. Догадавшись, что немка хочет пить, Анна влила в ее приоткрытый рот немного воды из своей фляжки. Старуха благодарно пошевелила рукой в нитяной перчатке и отвернулась, больше ей ничем нельзя было помочь.