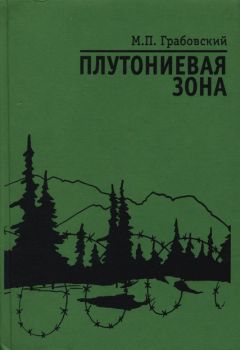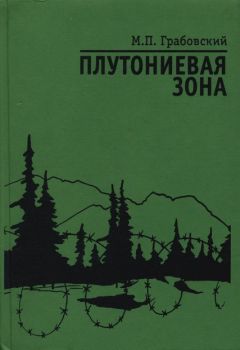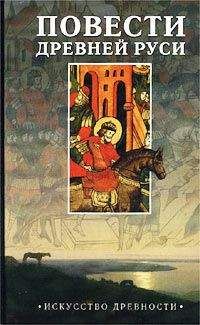Слав Караславов - Низверженное величие
— Новости из Болгарии не очень-то радостны…
— Почему? Что там?
— Они разрушают нашу столицу…
— Они разрушают ее по вине тех, кто с таким легкомыслием держался за фалды Гитлера… — подхватил Димитров и, опершись локтями о стол, долго молчал. Коларов смотрел на его высокий, изрезанный морщинами лоб, на сильно поседевшие волосы, на складку между бровями. Во всей его фигуре было нечто монолитное, суровое и одновременно душевное, то, что может быть свойственно только сильной личности. Димитров никогда не рисовался, не выносил эффектной позы, был чужд личного честолюбия, ему претила лесть. Льстецов он тут же обрывал своим характерным: «Ладно, ладно, хватит уж…»
И сейчас, глядя на его пышные волосы, сильные руки с короткими пальцами, как бы ощупывая взглядом темный поношенный костюм, Коларов невольно сравнивал его со знакомыми или случайно встреченными людьми. Некоторые из них были смешны своим стремлением любыми средствами завоевать уважение, как-то выделиться, чем-то блеснуть — золотыми часами, чужой ли мыслью. Другие хвастались мнимыми подвигами, считали, что их недооценивают, мечтали о великих делах, всегда старались переводить разговор на себя. Пик славы Димитрова пришелся на времена Лейпцигского процесса, когда он стал символом борьбы с фашизмом, захватившей весь земной шар, но он никогда не принимал позы мудрого вождя, ступившего на пьедестал бессмертия. Он был слишком земным, чтобы позволить себе что-нибудь в этом роде, да и смерть Мити вырвала его на некоторое время из водоворота напряженных будней, сделала мягче и созерцательней. Коларов впервые видел его таким, он начал даже бояться за него. В железном Георгии Димитрове появилась тонкая трещина, называемая отцовской любовью, о которой и сам он, наверно, не подозревал. Правда, люди, окружавшие его, давно могли ее приметить, зная, как он любит детей, сколько времени отдает встречам с пионерами, с «будущим человечества», как он их называет. Тот факт, что он усыновил дочь прославленного китайского революционера и сына болгарского коммуниста, давно должен был сказать им об этой слабости несгибаемого борца. И, словно уловив ход мыслей Коларова, Димитров опустил ладони на стол и сказал:
— Бомбят… Убивают… Но почему же дети должны гибнуть под бомбами?.. За что?.. В чем они виноваты?..
— А нельзя ли тут что-нибудь сделать?
— Что?
— Попросить союзников прекратить бомбардировки. Когда я слышу об их налетах, начинаю думать, что они совершают их специально… Немцы в Афинах и в Белграде, но ни Афины, ни Белград не бомбят… Разрушают нашу столицу, потому что боятся, что Красная Армия их опередит… А уцелевшая Болгария не создаст экономических трудностей победителям…
Мысли Васила Коларова повисли в тишине кабинета. Димитров продолжал стоять, опершись ладонями о стол, словно ничего не слышал. Через приоткрытое окно донесся звон кремлевских курантов. Крыши зданий отяжелели под пластами позднего мартовского снега. От Москвы-реки слабо веяло пробуждающейся весной… Надо что-то делать… Коларов, возможно, прав. Димитров поднял телефонную трубку…
5Развигоров не ошибся. Он породнился с главным редактором той самой безответственной газеты. Девушка вроде ничего, но красавицей не назовешь. Такие встречаются везде и всюду. Зато приданое богатое. Отец объявил на свадьбе, что дает за дочерью доходный дом, переписывает на молодых квартиру и весьма крупную сумму денег. Жених сидел возле невесты, уставившись в стол мрачным взглядом пьяницы. Какая-то холостяцкая богема орала в углу ресторана, на все лады восхваляя художника. По мнению приятелей выходило, что его новые полотна гениальнее всего того, что до сих пор создано в болгарском изобразительном искусстве. Гатю Развигоров, гордившийся талантом сына, не скрывал своего благоволения к его друзьям. После каждого тоста он одобрительно кивал. Для Константина Развигорова оказалось неожиданностью, что на свадебное приглашение отозвались весьма высокопоставленные лица. Он не мог понять, откуда у его дяди такие связи. С большинством этих людей он был на «ты». Исключая регентов, за его столиками сидели деятели всех политических толков. Но больше всего Развигорова удивили пладненцы[19]. Их представитель тоже поднял тост во славу жениха. Значит, он пришел сюда не для того, чтобы уважить газетчика. Гатю Развигоров, сильно раздавшийся, с глубокими морщинами и кожей, похожей на древний пергамент, с чернильными пятнами на пальцах, только и делал, что с какой-то суровой торжественностью, почти что священнодействуя, поднимал бокал. Он часто обращался к Константину Развигорову, называя его по-родственному Косьо, показывал на незнакомые ему литературные светила с подчеркнутой фамильярностью, представляя его некоторым из них как человека, пренебрегшего министерским креслом. Выходило, что его отказ войти в кабинет Божилова расценивается как большой подвиг. Отец невесты тоже не страдал скромностью, но об этом знали давно.
Развигоров и его жена ушли рано. Когда они поднялись, молодожены тоже встали из-за стола, чтобы их проводить. Константин Развигоров пожелал им счастливой семейной жизни, а художнику — большого имени в искусстве. О пишущей машинке ничего не сказал. Ее передали молодым вместе с его визитной карточкой. Елена подарка не одобрила. Она бы предпочла подарить молодой какое-нибудь золотое украшение. Драгоценности ценятся больше, чем пишущие машинки, пусть даже самой известной фирмы.
На автомобиле ехать было нельзя — выпал снег, красивый, как в сказке. Пришлось нанять сани до Чамкории. Ехали молча. Развигоров мысленно был где-то далеко от земных забот. Белая зимняя картина так очаровала его, что он вздрогнул, когда жена прервала молчание:
— Люди знают, на ком жениться… А наш…
— Что «наш»? — перебил он ее.
— Сглупил, вот что.
— А по-моему, оказался умнее всех нас…
— Умнее? Что же тут умного? И тебя сбил с толку…
— Меня? Каким образом?
— Если бы ты сейчас был министром, Божилова не проходила бы мимо меня, как мимо турецкого кладбища…
— Я думал, ты выше этого, — бросил Развигоров и замолчал до тех пор, пока они не вошли в теплый, протопленный холл.
Дочери уже разожгли камин. Служанка приняла пальто, сначала у мадам, потом у хозяина. Предупредила, что в доме — посетитель. Развигоров не удивился гостю. Управляющий мельницей, бай Тотю, часто приходил рассказать хозяину, как идут дела. Обычно они беседовали в конторе, но сейчас телефонная связь была ненадежной, и управляющий решил прийти прямо сюда. Развигоров пригласил его в боковую комнату, служившую и кабинетом, и столовой.
— Ну что? — спросил он, отодвигая подушку, чтобы сесть.
— Плохо, господин Развигоров…
— Что-нибудь случилось? Уж не сгорела ли мельница?
— Да нет, — виновато улыбнулся управляющий. — Моторист муку ворует. Я давно за ним следил. Оказалось, помогает партизанам.
— И что ты сделал? — поднял брови Развигоров.
— Что сделал? Решил доложить вам…
— А полиции? Властям?
— Ничего не говорил.
— Тогда слушай меня. И впредь — никому ни слова. Если еще будет брать — дай, но скажи, что даешь с моего согласия. А поймают их — ты ничего не давал, и я ничего не знаю. Понял? И со мной у тебя никакого разговора сейчас об этом не было. Если что, принес-де мне немного белой муки для баницы[20]… Господа, мол, очень любят хорошую баницу… Понял?
— Понял.
— Если тебе негде ночевать, оставайся. Устроим.
— Да нет, я пойду…
— Ну, смотри. И помни — ты ничего не говорил, я ничего не спрашивал…
Развигоров подождал, пока управляющий выйдет, придвинул пеструю подушку, поудобнее устроился на узком диванчике и задумался. Люди ищут случая породниться с сильными мира сего, а он? Вместо того чтобы послать управляющего прямо в полицию, велел ему молчать и даже помогать тем, кто крадет его муку… Собственно, что он выиграет, если выдаст моториста? Мельница встанет, а это убытки. Власти тут же пришлют стражника, чтобы он каждый килограмм считал. А партизаны и отплатить могут — чиркнут спичкой, поди разберись… Только бы Тотю не сболтнул лишнего. Не должен, Развигоров хорошо его знает, давно служит ему этот человек. И честно служит. Когда он пришел наниматься, хозяин сказал: «Работать будешь, как на себя. Решишь, что плачу тебе мало, сразу скажи, и я увеличу тебе жалованье. Не хочу, чтобы ты стал обманщиком, а я обманутым».
С тех пор он уже трижды повышал управляющему жалованье. Непредвиденная тревога затихла, и Развигоров вернулся мыслями к свадьбе: он слышал, что его дядя Гатю — масон. Сколько в этом правды, он не берется утверждать, но там, среди гостей, видел человека, о котором точно знает, что тот масон. Ничего удивительного, если в своем стремлении наверх Гатю с ними сблизился. Пока братья Развигоровы сидели рядом за трапезой, Константин спросил Гатю о другом сыне и дочери. Оказалось, Лазар закончил Духовную академию, а Мария уже второй год изучает в Швейцарии медицину. Это понравилось Константину Развигорову — и выбор профессии понравился, и выбор страны для учебы. Но в такой стране нелегко прожить, если не имеешь денег. Гатю навряд ли мог содержать детей одним сочинительством. Наверное, достаточно умно распорядился наследством, полученным от старого богатея Косьо из Габрова…