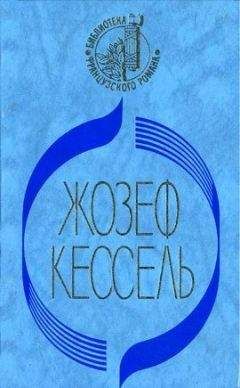Жозеф Кессель - Всадники
– Вот, – сказала старуха. – Теперь они стали друзьями. Они по-своему разломили хлеб-соль.
– Ты колдунья… – воскликнул Мокки. – Как все джат… Меня предупреждали… Колдунья.
Старуха отодвинула от себя обезьяну, коня и медленно встала. На лице ее, спокойном и сильном, появилось высокомерное гневливое выражение.
– Колдунья! Колдунья! Так глупые и трусливые дети обзывают людей, чьи знания и власть они не в силах понять.
– А ты где научилась этому? – спросил Уроз.
Старуха запустила руку в гриву Джехола, прижавшегося к ней, и, высокая и прямая, сказала со спокойной гордостью в голосе.
– Я Радда, дочь Челдаша. А от Сибири до Украины не было человека, умеющего лучше покупать, продавать и дрессировать лошадей, чем цыган Челдаш.
– Что это за племя? – спросил Уроз.
– Это так по-русски называют тех, кого вы зовете джат, – сказала Радда. – В других краях нас зовут «рома» или еще «жиганами». Но везде мы с давних времен являемся единым народом и говорим на одном и том же языке, пришедшем из Индии.
Мокки готовил чай и рис.
– Так что ты, значит, русская? – спросил Уроз.
– Мой отец и мой муж были оттуда, – сказала Радда. – Но с тех пор, как они погибли во время великого бунта, я превратилась просто в джат, которая все время находится в пути.
– Ты совсем одна? – спросил Уроз.
– Нет, не одна, – отвечала старуха. – То с одной зверюшкой, то с другой.
– И сколько же лет так ходишь? – спросил Уроз.
– Считай сам, если хочешь. Мне нечего считать годы, – ответила Радда.
Она присела, скрестив ноги, перед уже тремя почерневшими от огня камнями, на которых у самого костра кипела вода и варилась пища. Ела она медленно, молча, с должным уважением к тому, что делает.
Время от времени старуха вынимала из мешка куски какого-то непонятного месива и давала их обезьяне. Вокруг костра до тех пор, пока джат и ее спутник не кончили есть, царило молчание. Тут она спросила обезьяну самым естественным тоном.
– Ну как, наелся, Сашка?
Обезьяна кивнула головой и почесала живот. Потом, прижав руку к сердцу, низко поклонилась Урозу и Мокки.
– Это она нас благодарит, в самом деле, она нас благодарит, – восторженно закричал саис.
На его круглом, плоском лице было написано чисто детское восхищение. Теперь все мысли его были обращены к этой игрушке. В жизни своей он не видел такого и даже не мечтал увидеть. Обезьяна сделала поклон еще ниже. И тут в холодной ночной тишине раздался громкий хохот Мокки, которому еще совсем недавно казалось, что он отныне навсегда разучился смеяться. Морда обезьяны расплылась в улыбке. Она любила, когда люди смеются. Обезьяна видела в смехе подтверждение: ее труд не пропал даром. Ну а этот смех превзошел по громкости и благодарности все, что она слышала до сих пор. И ей захотелось вызвать его еще раз. Ее быстрый, печальный взгляд перешел от сучковатой палки, валявшейся на земле, к старой цыганке. Та слегка наклонила голову. Обезьяна схватила палку, приложила ее вертикально к левому плечу, выпрямилась и прошла строевым шагом шесть шагов вперед, сделала поворот кругом, прошла шесть шагов назад и остановилась перед Мокки.
– Как солдат! Я угадал!.. Теперь она солдат, – крикнул Мокки, хлопая в ладони. – Еще!
Обезьяна изобразила всадника, потом пьяного. Радость саиса была беспредельной.
– Довольно, – вдруг выразил свое недовольство Уроз.
Он не любил эти дурацкие игры, и тем более ему не нравилась радость Мокки. Обращаясь к старой женщине, он спросил:
– Ты всегда заставляешь работать обезьяну, Радда? А сама-то ты чему-нибудь научилась у своих родичей?
– Гадать, например? – спросила старуха.
– Например, – согласился Уроз.
Он знал, что отлично владеет своим лицом и голосом, и был уверен, что никто не догадается о его суеверной жажде узнать будущее в этот решающий для него момент жизни. Однако когда Радда присела у костра и устремила на него свои бездонные глаза, он понял, что она все видит.
– Я не читаю будущее по линиям руки или по чаинкам, – сказала Радда. – Я вижу людей насквозь, узнаю, что они скрывают от других и сами от себя.
А уж они пусть понимают сами.
– Делай, как считаешь нужным, – сказал Уроз.
Джат прищурила глаза, почти закрыла их.
– Гордыня, – сказала она, – не заменяет дружбу к самому себе. А жестокосердие не заменяет смелость.
– Все? – спросил Уроз.
Он сказал это высокомерно, но ладони его, несмотря на холод, вспотели, и ему стало легче, когда старуха отвернулась, сказав:
– Если ты тот, каким я тебя считаю, этого тебе должно хватить.
Тут за плечом цыганки послышался робкий, почти детский шепот.
– А мне, – сказал Мокки, – что мне ты можешь сказать, бабушка такой бесподобной обезьяны?
Не поворачиваясь и не удостоив его взглядом, джат ответила:
– Простодушие не всегда залог невинности.
Уроз пожал плечами.
– К чему с ним разговаривать, – сказал он. – Все равно, что с моим жеребцом.
– С твоим жеребцом? – тихо спросила цыганка. – А разве ты не знаешь, что в его гриве сплелись нити ваших судеб?
Уроз не пытался ответить. Он почувствовал во всем теле тяжесть, такую тяжесть, будто стал каменным. Но тут какая-то странная сила стала вливаться в него, и он потянулся к старухе, склонившейся над костром. Та начала петь. Песня ее поднималась в небо, в темноту, к звездам, била вверх подобно струе горячего фонтана. В ней слышались то удары бубна, то звон тарелок, то резкий рев труб, то низкое, томное звучание струн. То звоном меди, то мягкостью бархата отдавала эта песня, похожая на скачку демонов, на полет духов одиночества, духов ночи, духов огня. Никогда еще Уроз не оказывался во власти такого волшебства. Никогда еще у него не было ощущения такого яростного, великолепного полета, ощущения такой гордой и безграничной свободы… не слышал он такого зова бесконечности, никогда раньше останавливающего дыхание и снова возвращающего к жизни. Сломанная, искалеченная нога Уроза перестала болеть. Он чувствовал себя где-то далеко-далеко, и грудь его была широко раскрыта, чтобы суметь вместить в себе все молнии, все бури, все звезды.
Песня резко оборвалась, как отрезанная косой. У Уроза возникло ощущение, что ему нестерпимо не хватает ее. Ему захотелось вновь услышать песню, повторить хотя бы несколько слов из этого гимна отваге и славе. Но он вдруг осознал, что язык, на котором пела старуха, ему незнаком.
– Это были русские слова? – спросил он.
– Нет… Цыганские, или джат, если тебе будет угодно, – ответила Радда.
Она смотрела в затухающий костер, где еще краснели, словно рубины, несколько угольков среди золы.
– Слова эти достойны того, чтобы их запомнить? – спросил Уроз.
Чтобы ответить, старуха медленно повернулась к нему. Как раз в этот момент в костре вспыхнуло пламя и озарило ее сухой, благородный профиль. В таком обрамлении она вдруг сделалась похожей на почерневшую от времени бронзовую скульптуру.
«Она не просто смуглая, – подумал Уроз. – От глиняной пыли многих дорог у нее сделалась вторая кожа».
Старуха спросила:
– Так, значит, ты хочешь понять слова?
Уроз кивнул головой.
– Ты прав. Это как раз песня для всадников, – сказала джат.
Закрыв глаза, она добавила:
– Подожди, мне нужно мысленно перевести.
Какое-то время в тишине слышалось только позвякиванье цепи. Обезьяна чесалась. Потом старуха сказала Урозу:
– Я предупреждаю, это будет не так красиво, как на цыганском языке. Чтобы слова взлетали в небо, они должны звучать на родном языке. В переводе они теряют крылья.
– Ничего, ничего, – воскликнул Уроз.
Будто желая раззадорить его еще больше, старуха начала, не раскрывая рта. Голос ее от этого был еще загадочнее и грубее.
«Видать, и в горле у нее тоже есть что-то от пыли пройденных дорог», – подумал Уроз.
Нетерпение в нем прошло, и он полностью отдался ритмичному шепоту, поднимающемуся все выше, выше, становящемуся постепенно гудением, гулом, громом. И песнь началась. Вот ее слова:
Гей! Гей! Огонь горит в крови моей,
И конь мой скачет ветра быстрей,
А степь просторна, широка,
Крепки стремена, рука крепка.
Гей! Гей! Товарищ мой, лети вперед!
Стрелы быстрее твой галоп,
В угрюмом мраке тонет степь,
К рассвету сможешь ты успеть.
Гей! Гей! Навстречу небу поспешай,
Мой конь, уж близок его край.
Но только гривой не задень,
Луну-принцессу не задень.
Старая джат глядела на костер, уткнув острый подбородок в ладони. Мужчины слушали, не шелохнувшись.
– О, матушка, матушка! Откуда в тебе столько силы? – воскликнул вдруг Мокки, не осознавая, что называет святейшим именем презреннейшую из женщин.
– Замолчи! – грубо крикнул ему Уроз.
И чтобы вернуть, чтобы продлить действие чар, повторил шепотом: