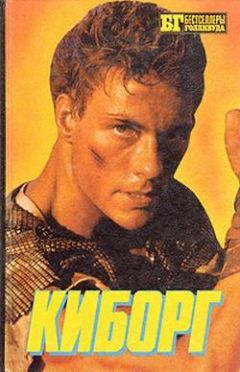Ступников Юрьевич - Всё к лучшему
– Возвращайтесь в Филадельфию, – сказала моя еврейская, но сытая сестра.
– Да мне некуда и не к кому возвращаться. Ни там, ни здесь – никого. Вы что, не понимаете? Я месяц, как из Советского Союза. Легализовался со статусом беженца, социальный номер свой получил, третий день в Нью-Йорке. И не прошу у вас ничего – только направление. Я не привык и не хочу спать на улице или под мостом…
И вот тут меня в одночасье сделали по-настоящему свободным.
– Встречаться лично нам нечего, – сказала «Наяна». – Не хотите возвращаться в Филадельфию – ваше дело. А если не нравится, то забирайте свои вещи и убирайтесь обратно в Россию…
– Ты уже десять минут на телефоне, – засвербила откуда-то сбоку хозяйка. – Еще немного, и я вычту разговор из зарплаты.
Но это уже было где-то не ко мне. На автопилоте, взяв расчет, не глядя и не оглядываясь, я уже хлебал открытыми ртами своих хваленых чешских туфель стреловидную мостовую Манхеттена – прямо и прямо. Я шел и шел, потому что останавливаться было нельзя. Останавливаться – значит «в никуда». Весь этот огромный мир, говорящий на ста языках, с магазинами, зазывалами, спешащими клерками, «торчками» у перекрестков и бомжами на вентиляционных теплых решетках подземки был не передо мной, как казалось чуть раньше, а словно навалился сверху. Прямо на голову.
По промерзшим улицам Нью-Йорка уже сквозило мое первое настоящее Рождество, и ряженые в красном Санта Клаусы кивали из витрин, как на киношном карнавале какого-то отстраненно-потустороннего мира. Но это и была реальность.
Говорят, что люди, пережившие клиническую смерть, видят себя как бы со стороны. Странно, но я физически ощущал почти то же самое. Словно все это происходило не со мной. И я видел себя, идущего, то сбоку – рядом, то сверху – издалека.
– Ну ладно, – вдруг вырвалось вслух через час, или два, или три у бесконечных ангаров полутемной улочки почти на берегу Гудзона. – Ну ладно… Значит, так и будет. Но если какая-нибудь блядь еще раз скажет мне про еврейское братство, я размажу ее антисемитскую морду в крошку.
И стало легко.
И смертельно захотелось жить.
Для начала я нашел комнату на Брайтоне. Денег как раз хватило заплатить за первый месяц авансом, вместо положенных двух. Хозяева и не настаивали. Пластиковая баночка из-под йогурта стала на первые недели чашкой для чая. Советский кипятильник, друг командировочного, – чайником. Несложный подсчет – жесткой нормой. Два доллара – на метро. Два доллара – сигареты и газеты. И еще полтора – на слайс пиццы и стакан кофе в обед… Итого, 6-8 долларов в день – уже не так голодно. Обращаться за велфером, социальным пособием, мне даже и в голову не пришло. Нужно было срочно заработать на хлеб и угол, а не тратить время на прошения и ожидания подачек.
«Они» – себе, я – себе… И пошло-поехало. Мыть, убирать, таскать, укладывать…
Первые статьи в «Новое русское слово» взяли сразу, но рабочие места там были заняты. Вечера за полночь заполнили газеты с выписанными оттуда в тетрадку новыми словами. На выходные – подработка на свадьбах и торжествах. Это была песня без слов.
Случайно встреченный почти земляк, бывший еще до меня в Воркуте оператор тамошнего телевидения, здесь вместе с сыном снимал радости чьей-то торговой жизни. За тридцатку ребята пригласили меня держать им свет. Самым трудным оказалось делать это в первый раз.
Крупные женщины с лакированными головами в нарядных блестящих платьях украинской глубинки, пузатые мужчинки с золотыми тяжелыми цепями и шестиконечными звездами, тринадцатилетний виновник торжества, справляющий по нужде местных приличий свою бар-мицву (совершеннолетие) – все в одном коктейле понтового хоровода оживших бабелевских лиц.
Ребята дотошно снимали степенно входивших гостей и подсказывали, с какой стороны заходить со светом. Мальчик, в специально сшитом белом костюме, размеренно принимал поздравления, и вдруг, единоутробно прокричав «лехаим», гости решительно и резко, как в последний бой, рванулись к еде. На эстраду вышла певица и запела какую-то популярную песню Пугачевой. Из тех, что тогда повсюду гремели в Союзе.
– Саш, свети на зал, ты чего?
И действительно, а чего я здесь делаю? И как я вообще сюда попал?…
Человек – не скотина. Он ко всему привыкает. Особенно когда на приставных стульях, в углу, дают десять минут поесть мяса.
Первую приличную работу, найденную по объявлению в «Нью-Йорк Таймс», я провалил по незнанию. В головной офис высотного здания Всемирной сионистской организации нужен был специальный человек для работы на копировальной машине.
– Главное – зацепиться хотя бы уборщиком, но в приличной фирме, а там разберемся…
В отделе кадров меня с интересом встретили и, расспросив, даже угостили кофе.
– Думаю, вы подходите, – сказали мне, но главное слово – у непосредственного начальника отдела.
– Так вы говорите, что были рабочим в России? – шустрый дядька, явно ашкеназ с недавними европейскими корнями, выразительно посмотрел на мои, уже огрубевшие, но генетически далеко не крупные руки.
– Конечно. Слесарем-сборщиком.
Я уже знал из личного опыта, что понятия журналист или университет – это гарантия немедленного отказа. «Богу-Богово, а слесарю – слесарево».
– У нас небольшая зарплата, – надавил он. – А работы много. Надо делать копии и разносить их по отделам.
– Главное – работа…
Попался я на нескольких дополнительных вопросах. Он спросил, как называется столица Китая, что такое Варшава и сколько будет, что-то там из таблицы умножения, типа пятью пять.
Я, дурак, и ответил.
– Вы слишком квалифицированы для такой работы, – вздохнул дядька.- Ну поймите сами, мне нужен работник на долгое время. Я возьму чернокожего парня, и он будет работать здесь годами. А вы, согласитесь, через пять-шесть месяцев, оглядевшись, перейдете в какой-нибудь отдел или еще куда…
– Но мне нужна работа и деньги на жизнь сегодня.
– Ничего, это вопрос времени. Америка для таких, как вы, я же вижу.
Вторую из приличных работ я завалил в большом книжном магазине Манхеттена. Там нужен был грузчик, и я пришел уже по рекомендации знакомого американца, с которым мы как-то разговорились на улице. Американец, видимо, слишком хорошо обо мне отозвался, потому что менеджер даже не стал прикидываться и тратить свое время. Он просто поднял со стола кипу заполненных анкет и тряхнул ими в воздухе.
– Вот здесь более пятидесяти заявлений на эту работу…
Шесть дней в неделю по утрам я долбил лед на тротуаре напротив магазина подержанной мебели, чтобы прохожие, поскользнувшись, не подали в суд. А затем сушил сопли у обогревателя в промерзшем насквозь помещении, отбиваясь не столько от редких в этом афроамериканском районе Бруклина покупателей, сколько от вьетнамского вида рэкетиров, которые время от времени заходили и грозно требовали хозяина.
В ответ я предлагал им матрацы «кинг-сайз», видимо, украденные с фабрики, поскольку они были в упаковке. И вьетнамцы, ругаясь и грозя, уходили в темень улицы, обещая вернуться.
Как-то вдруг, неожиданно, как все хорошее, реально засветилось настоящее дело. В нью-йоркском офисе радио «Свобода» на русском языке не было даже внештатных вакансий. Но в небольшой белорусской редакции, которая располагалась здесь же, заказали несколько материалов, без политики – о жизни эмигрантов, сумевших поднять свой первый бизнес.
Вновь прибывшие в то время сплошь говорили по- русски, а уже небольшие вводные тексты, взяв словари, я составлял на белорусском. Проблема была даже не в отсутствии языковой практики – знакомую на слух с детства «мову» можно было восстановить, а в произношении. К тому же «основная» работа в магазине, английский и усталость выдавливали все на свете.
И тут произошел случай, после которого любой язык, который жизнь сама дает людям, живущим в той же Беларуси, Украине, Эстонии или Израиле, стал для меня столь же значимым, как и языки мировые. Никогда не знаешь, если ты в движении, что может поставить непростые шаткие обстоятельства на нормальные устойчивые рельсы.
Очень скоро, даже слишком, мне сказали, что в белорусскую редакцию «Свободы» в Мюнхене при очень хороших условиях нужен молодой человек. И я вроде подхожу. Это уже был прорыв. С Америкой за три месяца тамошней жизни меня еще ничего не связывало.
Накануне интервью не спалось, и, отпросившись, разумеется, за свой счет, с работы, я до утра листал белорусско-русский словарь. Но произошло то, что и должно было случиться.
Язык, как женщина, прощает все или почти все, кроме высокомерного игнорирования.
Руководитель службы, интеллигентный профессор-филолог, разговаривал со мной, понятно, на чистом белорусском. Когда на нем говорят правильно, это звучит красиво и даже, как мне казалось здесь, в Нью-Йорке, тепло. Проблема, однако, была в том, что мне тоже надо было свободно отвечать.