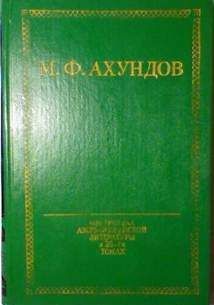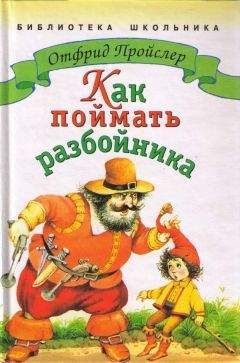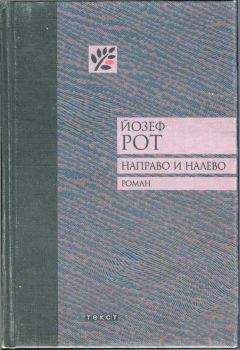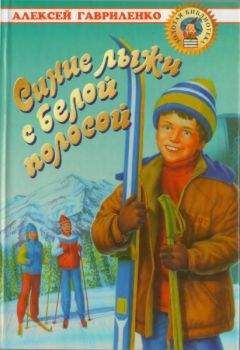Йозеф Рот - Марш Радецкого
Казалось, что какая-то волшебная рука мигом стерла с лица Карла Йозефа краску юности. Нигде во всей императорско-королевской армии нельзя было найти другого такого лейтенанта. Ему все казалось, что он должен сделать что-то особенное, но нигде ничего особенного не находилось! Само собой разумелось, что он должен был выйти из этого полка и перевестись в другой, но он все словно искал какого-нибудь трудного дела. В действительности же он искал добровольного искупления. Он не умел это выразить, но мы-то можем о нём это сказать: его несказанно угнетало, что он был орудием в руках несчастья.
В таком состоянии находился он, когда сообщал отцу о результатах дуэли и о своем неизбежном переводе в другой полк. Он промолчал о том, что при этом ему полагался кратковременный отпуск, так как боялся показаться на глаза отцу. Выяснилось, однако, что он мало знал старика. Окружной начальник, образцовый имперский чиновник, был знаком и с военными порядками. И странно, но он, видимо, также разбирался в горестях и смятениях сына; это можно было ясно прочесть между строк его ответа; ибо письмо окружного начальника гласило:
"Милый сын!
Спасибо тебе за подробные сообщения и за доверие. Судьба, постигшая твоих товарищей, очень огорчило меня. Они умерли, как подобает честным мужам.
В мое время дуэли были еще чаще и честь ценилась много дороже жизни. В мое время, сдается мне, и офицеры были сделаны из более крепкого дерева. Ты офицер, мой сын, и внук героя Сольферино, ты сумеешь с достоинством перенести то, что невольно и невинно участвовал в этом печальном событии. Тебе, конечно, жаль расстаться с полком, но помни, в любом полку, в любом военном округе ты служишь нашему государю.
Твой отец Франц фон Тротта.
P. S. Двухнедельный отпуск, полагающийся тебе при переводе, ты можешь, по своему усмотрению, провести либо в моем доме, либо, что еще лучше, в новом гарнизоне, дабы скорее свыкнуться с тамошними условиями. Вышеподписавшийся".
Это письмо лейтенант Тротта читал не без чувства стыда. Отец угадал все. Образ окружного начальника вырос в глазах лейтенанта до величины, почти устрашающей. Он почти сравнялся с дедом. И если лейтенант уже до того страшился предстать перед отцом, то теперь для него было совершенно немыслимо провести отпуск дома. "Потом, потом, когда у меня будет очередной отпуск", — говорил себе лейтенант, сделанный из совсем другого дерева, чем лейтенанты времен юности его отца.
"Тебе, конечно, жаль покинуть полк", — писал отец. Неужто он написал это, потому что хорошо знал обратное? О чем здесь мог пожалеть Карл Йозеф? Разве что об этом окне, виде на солдатские казармы, об этих солдатах, сгорбившись сидевших на койках, о тоскливом звуке их губных гармоник и напевов, об их песнях, звучавших как непонятное эхо подобных же песен, распевавшихся крестьянами Сиполья! "Может быть, нужно поехать в Сиполье", — думал лейтенант. Он подошел к карте генерального штаба, единственному украшению на стенах его комнаты. Даже во сне мог бы он отыскать Сиполье. На южном крае монархии лежала эта тихая, безмятежная деревушка. В середине слегка заштрихованного светло-коричневого пространства находились крохотные тонкие черные буквы, из которых составлялось слово Сиполье. Вблизи были нанесены: колодезь, водяная мельница, маленький вокзал одноколейкой лесной дороги, церковь и мечеть, молодой лиственный лес, узкие лесные тропинки, проселочные дороги и одинокие домики. В Сиполье теперь вечер. У колодца стоят женщины в пестрых платках, обданные золотом пылающего заката. Мусульмане возносят молитвы, простершись на стареньких коврах мечети. Малюсенький локомотив лесной одноколейки свистит в густой темной зелени бора. Стучит мельница, журчат ручейки. То была старая игра, еще со времен кадетского корпуса. Привычные картины возникали по первому знаку. И над всем этим сиял загадочный взор деда. Вблизи, по всей вероятности, не было кавалерийского гарнизона. Следовательно, нужно переводиться в пехоту. Не без сострадания взирали товарищи со своих коней на пешие войска, не без сострадания будут они впредь взирать и на Тротта. Дед тоже был только простым пехотным капитаном.
Нет! Лейтенанту, безусловно, не жаль покинуть свой полк. И, пожалуй, даже кавалерию! Отец должен дать на это согласие. Придется, скорее всего, пройти еще немного скучный курс пехотного строя. Надо будет проститься с товарищами. Небольшой вечер в казино. Всем по стопке водки. Короткая речь полковника. Бутылка вина. Сердечные рукопожатия товарищей. Они уже перешептываются за его спиной. Бутылка шампанского. Под конец, кто знает, может последовать поход в заведение фрау Рези. Еще по стопке водки. Ах, если бы это прощание было уже позади! Денщика Онуфрия он возьмет с собой. Немыслимо опять с таким трудом привыкать к новому имени! Поездки к отцу можно будет избегнуть. И вообще надо будет постараться избегнуть всех тяжких обязанностей, связанных с переводом в другую часть. Но как-никак остается еще трудный, трудный путь к вдове доктора Деманта.
Какой путь! Лейтенант пытался уговорить себя, что фрау Ева Демант после похорон мужа опять уехала к отцу в Вену. Тогда он будет стоять перед домом, долго и напрасно звонить, затем узнает адрес и напишет коротенькое, по возможности сердечное письмо. Как хорошо, что можно будет ограничиться письмом. "У меня мало мужества", — думает лейтенант. Если бы не чувствовать постоянно темного, загадочного взгляда деда на своем затылке, как плачевно пришлось бы ковылять по этой трудной жизни! Мужественным становишься, только вспоминая о старом герое Сольферино. Необходимо постоянно обращаться к деду за подкреплением.
И лейтенант стал медленно собираться в тяжелый путь. Было три часа пополудни. Торговцы мерзли у своих ларьков, дожидаясь редких клиентов. Из мастерских ремесленников слышались привычные и плодовитые звуки. Весело стучал молот в кузнице, из мастерской жестянщика доносилось полое громыхание жести, проворно постукивало что-то в подвале сапожника, а у столяра жужжали пилы. Все лица и все шумы мастерских были знакомы лейтенанту. Дважды в день верхом на своей лошади он проезжал мимо них. С седла он мог видеть все, что творилось за старыми сине-белыми вывесками. Каждый день он видел внутренность комнат первого этажа, постели, кофейники, мужчин в рубашках и женщин с распущенными волосами, горшки с цветами на подоконниках, сушеные фрукты и соленые огурцы за решетчатыми окнами кухонь.
Вот он уже стоит перед домом доктора Деманта. Скрипнули ворота. Он вошел. Вестовой открыл ему дверь. Лейтенант дожидался. Вышла фрау Демант. Его слегка знобило. Он вспомнил свой траурный визит к вахмистру Слама. Ощутил тяжелую, влажную, холодную руку вахмистра, увидел темную переднюю и красноватую гостиную. Почувствовал во рту приторный вкус малиновой воды. "Значит, она не в Вене", — подумал лейтенант, увидев вдову. Ее черное платье удивило его. Казалось, он только теперь понял, что фрау Демант вдова полкового врача. И комната, в которую они вошли, выглядела теперь не так, как при жизни друга. На стене, обвитый черным крепом, висел портрет покойного. Он отодвигался все дальше, как император в казино, словно был не тут же перед глазами, доступный осязанию, а где-то далеко за стеной, видимый в окно.
— Спасибо, что вы пришли, — проговорила фрау Демант.
— Я пришел проститься, — ответил Тротта.
Фрау Демант подняла голову. Лейтенант увидел красивый, светло-серый блеск ее глаз. Они уставились ему прямо в лицо. В зимних сумерках светились только ее глаза. Лейтенант перевел взор на ее узкий белый лоб, затем на стену, где висел далекий портрет покойного мужа. Обмен приветствиями продолжался слишком долго, пора бы уже и сесть. Но фрау Демант ничего не говорила. В это время стало чувствоваться, как темнота приближающегося вечера проникает через окно и как в душу заползает ребяческое опасение, что в этом доме свет уже никогда не зажжется. Ни одно подходящее слово не приходило на помощь лейтенанту. Он слышал тихое дыхание женщины.
— Что мы стоим здесь? — промолвила она наконец, — давайте сядем. — Они сели друг против друга у стола. Карл Йозеф сидел, как когда-то у вахмистра Слама, спиной к двери. И эта дверь, как и та, казалась ему угрожающей. Ему чудилось, что она может вдруг бесшумно приоткрыться и так же бесшумно замкнуться. Окраска сумерек становилась более темной. В них растворялось черное платье фрау Евы Демант. Ее белое лицо, нагое, неприкрытое, парило над темной поверхностью вечера. Исчез портрет покойного на стене напротив.
— Мой муж, — послышался сквозь сумрак голос фрау Демант. Лейтенант видел, как сверкнули ее зубы; они были еще белее лица. Постепенно он начал различать и холодный блеск ее глаз. — Вы были его единственным другом! Он часто говорил это! Да, и как часто он вообще говорил о вас! Если б вы знали! Я не могу уяснить себе, что он мертв! И, — прошептала она, — что я в этом виновата!