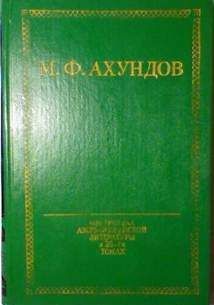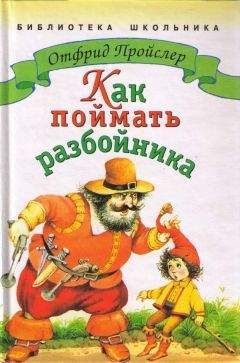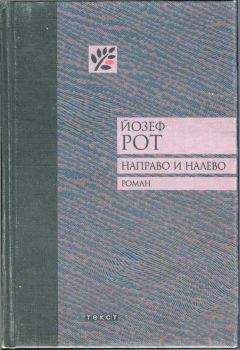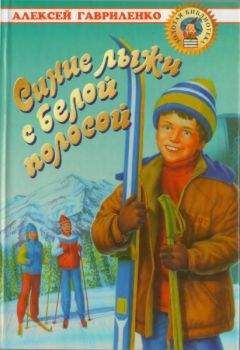Йозеф Рот - Марш Радецкого
— Конечно! — произнес он. — В армии политика неуместна. Правда, он, — Кнопфмахер указал на портрет, — отлично в ней разбирался.
— Он был очень умен! — тихо произнес Тротта.
— Ничем нельзя было помочь! — повторил Кнопфмахер.
— Он, может быть, — сказал лейтенант, и ему самому показалось, что из него вещает чужая мудрость, то, что заключалось в старинных толстых книгах сребробородого короля еврейских шинкарей, — он, может быть, был очень умен и совсем одинок.
Тротта побледнел. Он почувствовал на себе блестящий взор фрау Демант. Пора было уходить. Воцарилась тишина. Больше говорить было не о чем.
— И барона Тротта мы тоже больше не увидим, папа! Его переводят в другую часть! — проговорила наконец фрау Демант.
— Но вы подадите нам весточку! — сказал Кнопфмахер.
— Вы напишете мне! — повторила фрау Демант. Лейтенант поднялся.
— Всего хорошего! — сказал Кнопфмахер. Его рука, большая и мягкая, на ощупь напоминала разогретый бархат. Фрау Демант пошла вперед. Появился вестовой и подал лейтенанту шинель. Фрау Демант стояла рядом. Тротта щелкнул каблуками. Она быстро проговорила:
— Напишите мне! Я хочу знать, где вы находитесь. — Это было как теплое, быстрое дуновение, тотчас же рассеявшееся. Уже вестовой открывал дверь. Мелькнули ступени. Вот растворилась калитка, как тогда, когда он уходил от вахмистра.
Быстрым шагом он отправился в город, вошел в первое попавшееся ему на пути кафе, стоя у буфета, выпил рюмку коньяку, вторую. "Мы пьем только "Хеннесси!" — послышались ему слова окружного начальника. Он заторопился в казарму.
У дверей его комнаты, синей полоской среди сплошной белизны, дожидается Онуфрий. Дежурный канцелярист по поручению полковника принес пакет для лейтенанта. Узкий, завернутый в коричневую бумагу, он был прислонен к стене в углу. На столе лежало письмо.
Лейтенант прочел:
"Мой милый друг, оставляю тебе мою саблю и карманные часы. Макс Демант".
Тротта вынул саблю. На рукоятке висели простые серебряные часы доктора Деманта. Они не шли. Стрелки показывали без десяти двенадцать. Лейтенант завел их и поднес к уху. Они успокоительно затикали нежным, тихим голоском. Он открыл крышку перочинным ножом, как любопытный играющий мальчик. На внутренней стороне были выгравированы инициалы: "М. Д." Он выцарапал несколько корявых, беспомощных букв. "Будь здоров и свободен!" — гласила надпись. Лейтенант повесил саблю в шкаф. Портупею он еще держал в руке. Обшитый металлическими нитями, шелк заструился между пальцев прохладным золотым дождем. Тротта закрыл ящик. Закрыл крышку гроба.
Выключив свет, он одетым растянулся на постели. Желтоватое мерцание из солдатских казарм плавало на белом лаке двери, отражалось в блестящей щеколде. Напротив вздыхала гармоника, хрипло и тоскливо, заглушаемая низкими мужскими голосами. Они пели украинскую песню об императоре и императрице:
Наш государь — богом взысканный храбрец, —
Всем уланам своим обожаемый отец.
От супруги своей отправляется в поход,
А она во дворце его ждет,
Все горюет о нем, все тревожится о нем,
О лихом государе своем…
Императрица, правда, давно уже умерла. Но крестьяне думали, что она еще жива.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Лучи габсбургского солнца достигали на востоке границ русского царства. Это было то самое солнце, под которым семья Тротта расцвела и достигла дворянства и знатности. Благодарность Франца-Иосифа имела долгую память, а милость — длинные руки. Когда кто-либо из его предпочтенных детей намеревался совершить какую-нибудь глупость, министры и слуги императора своевременным вмешательством направляли глупца на путь разума и осмотрительности. Единственному отпрыску нового дворянского рода, фон Тротта и Сиполье, было не к лицу служить в той провинции, откуда происходил герой битвы при Сольферино, внук неграмотных словенских крестьян и сын жандармского вахмистра. Пускай потомку угодно было сменять службу в уланском полку на скромную долю пехотинца; это значило только, что он верен памяти деда, который в качестве простого пехотного лейтенанта спас жизнь императору. Но осмотрительность не дозволяла военному министерству послать носителя дворянского имени, точно совпадавшего с названием словенской деревни, откуда происходил основатель рода, в окрестности этой деревни. Такого же мнения придерживался и окружной начальник, сын героя битвы при Сольферино. Правда, он дал согласие — с тяжелым сердцем, конечно, — на переход сына в пехоту. Но стремление Карла Йозефа попасть в словенскую провинцию он никак не мог одобрить. Сам он, окружной начальник, никогда не испытывал желания увидать родину своих отцов. Он был австриец, слуга и чиновник Габсбургов, и отчизной для него являлся императорский дворец в Вене. Доведись ему представить свои политические взгляды касательно полезного переустройства разноплеменного австрийского государства, он признал бы желательным превратить все имперские земли в большие пестрые сады и дворы императорского замка и все народы, населяющие монархию, в верных слуг Габсбургской династии. Он был окружным начальником и в своем округе представлял австрийского императора. Он носил мундир с золотым воротником, треуголку и шпагу. Он не испытывал ни малейшего желания ходить за плугом по благословенной словенской земле. В его решительном письме к сыну стояла следующая фраза: "Судьба из нашей семьи пограничных крестьян сделала австрийцев, и мы ими останемся".
В силу этого для его сына Карла Йозефа, барона фон Тротта и Сиполье, южная граница осталась недосягаемой, ему предоставлялся выбор между службой внутри страны и службой на восточном ее рубеже. Он избрал егерский батальон, квартировавший в двух милях от русской границы. Вблизи находилась деревня Бурдлаки, родина Онуфрия. Этот край был родной страной украинских крестьян, их тоскливых гармоник и незабываемых песен: северной сестрой Словении.
Семнадцать часов сидел лейтенант Тротта в поезде. На восемнадцатом промелькнула последняя станция австрийской монархии. Здесь он сошел. Вестовой Онуфрий сопровождал его. Егерская казарма находилась в центре городка. Перед тем как войти во двор казармы, Онуфрий трижды перекрестился. Было утро. Весна, давно уже воцарившаяся в глубине страны, только недавно пришла сюда. Уже золотился ракитник по склонам железнодорожной насыпи. Уже цвели фиалки в сыром лесу. Уже квакали лягушки в нескончаемых болотах. Уже аисты кружились над низкими соломенными крышами хаток в поисках старых колес, фундаментов их летних обиталищ.
Пограничная полоса между Австрией и Россией на северо-востоке империи была в то время одним из удивительнейших краев. Егерский батальон Карла Йозефа стоял в городке с десятью тысячами жителей. Там имелась обширная площадь, в центре которой скрещивались две большие улицы. Одна шла с запада на восток, другая с севера на юг. Одна вела от вокзала на кладбище, другая — от развалин дворца к паровой мельнице.
Из десяти тысяч жителей города около трети кормилось различными ремеслами. Вторая треть сводила концы с концами, возделывая свои скудные земельные участки. А остальные занимались неким подобием торговли.
Мы сказали подобием торговли, ибо ни их товар, ни коммерческие обычаи не соответствовали представлениям цивилизованного мира о торговле. Торговцы в том краю жили скорее случаем, чем перспективами, скорее неучтимым предвидением, чем деловыми соображениями, и каждый из купцов готов был в любую минуту схватить любой товар, время от времени посылаемый ему судьбой, или же выдумать таковой, когда бог ему в нем отказывал. И вправду, жизнь этих торговцев являлась загадкой. У них не было лавок. У них не было имен. Не было кредитов. Но они почти сверхъестественным нюхом чуяли все тайные и таинственные источники денег. Они жили трудом других, но они создавали для других этот труд. Они были скромны и жили так скудно, словно кормились трудом своих рук. Но это был труд других людей. Всегда в движении, всегда в пути, с бойким языком и светлыми мозгами, они могли бы завладеть половиной мира, если б знали, что такое мир. Но они этого не знали. Ибо жили вдали от него, между востоком и западом, зажатые между днем и ночью, сами уподобившиеся неким живым призракам, которые ночь рождает и пускает бродить днем.
Мы, кажется, сказали, что они жили «зажатыми». Но природа страны не давала им это чувствовать. Природа ковала нескончаемый горизонт вокруг людей на границе и окружала их благородным кольцом зеленых лесов и голубых пригорков. А проходя еловым мраком, они могли даже чувствовать себя избранниками бога; если б только ежедневная забота о пропитании жены и детей оставляла им веру в благость господню. Но они проходили по еловому бору, чтобы запасти дров и с наступлением зимы сбыть их горожанам, ибо они торговали также и дровами. Кроме того, они сбывали бусы крестьянкам из окрестных деревень и крестьянкам, живущим по ту сторону границы, на русской земле. Они торговали перинами, конским волосом, табаком, драгоценными камнями, китайским чаем и южными фруктами, лошадьми и рогатым скотом, птицей и яйцами, рыбой и овощами, войлоком и шерстью, маслом и сыром, лесами и земельными участками, мрамором, привезенным из Италии, и человеческими волосами из Китая, нужными для производства париков, шелковичными червями и готовым шелком, тканями из Манчестера, брюссельскими кружевами и московскими калошами, полотном из Вены и жестью из Богемии. Ни один из тех диковинных, ни один из тех дешевых товаров, которыми так богат мир, не проходил мимо рук торговцев и маклеров этой местности. То, что они не могли раздобыть или продать в силу существующих законов, они раздобывали вопреки всякому закону и сбывали из-под полы, проворно, расчетливо и коварно, хитроумно и смело. Более того, многие из них торговали людьми, живыми людьми. Они переправляли дезертиров русской армии в Соединенные Штаты и молодых крестьянок в Бразилию и Аргентину. Они были агентами пароходных компаний и представителями чужеземных борделей. И несмотря на все, барыши их оставались грошовыми, и они не имели ни малейшего понятия о широком и пышном великолепии, в котором может жить человек. Их чувства, отшлифованные и изощренные отысканием наживы, их руки, умеющие выбивать золото из шлака, как выбивают искры из камней, не в состоянии были добыть радость для их сердец и здоровье для тел. Эти люди были порождены болотами, ибо наводящие ужас топи простирались по всему краю, по обе стороны шоссейной дороги, топи с лягушками, бациллами и коварной травой, страшной приманкой страшной смерти для всех беспечных и не знающих этих мест странников. Многие погибали там, и никто не слыхал их криков о помощи. Зато все, кто родился в этом краю, знали коварство болот и сами обладали некоторой долей этого коварства. Весной и летом воздух был полон непрестанным, сытым кваканьем лягушек. Под облаками ликовали такие же сытые песни жаворонков. Так, без устали, переговаривались небо и болото.