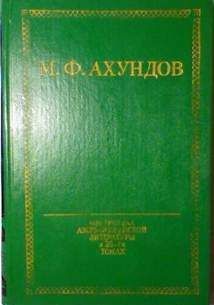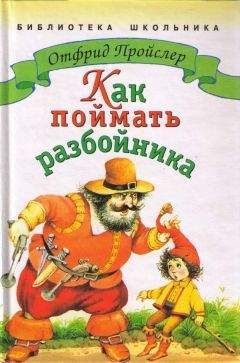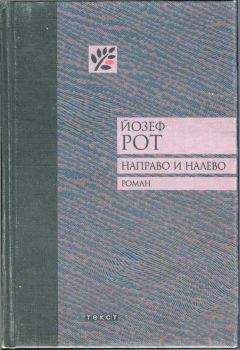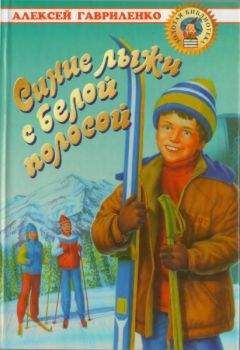Йозеф Рот - Марш Радецкого
Вынул из шкафа мундир, пристегнул саблю и стал ждать. Голова его поникла. Он уснул спокойно, без снов, в широком кресле у окна.
Когда он проснулся, небо над крышами было уже светлым. Легкое мерцание голубело на снегу. Скоро должны постучать. Вдали он уже слышал колокольчики саней. Они звенели все ближе и вот умолкли. Задребезжал звонок. Теперь заскрипела лестница. Вот уже звякнули шпоры. Вот постучали в дверь.
Они стояли в комнате, обер-лейтенант Крист и. полковник Вангерт из пехотного полка гарнизона. Они остановились в дверях, лейтенант на полшага позади полковника. Полковой врач бросил взгляд на небо.
— Я готов, милостивые государи, — объявил он.
Им было немного тесно в маленьких санках, бубенчики бодро звенели, каурые лошади поднимали хвосты и роняли на землю большие, желтые, дымящиеся яблоки. Полковой врач, всю жизнь равнодушный к животным, вдруг ощутил тоску по своей лошади. "Она переживет меня!" — подумал он. Лицо его ничего но выдало. Спутники молчали.
Они остановились приблизительно в сотне шагов от лужайки. До "зеленого уголка" дошли пешком. Было уже утро, но солнце еще не всходило. Тихо стояли ели, гордые и стройные, неся снег на своих ветвях. Вдали закаркала ворона, затем послышалось ответное карканье. Таттенбах громко переговаривался со своими спутниками. Старший врач, доктор Мангель, прохаживался между обеими партиями. "Господа!!" — произнес чей-то голос. В этот момент полковой врач, доктор Демант, обстоятельно, как это было в его привычке, снял очки и бережно положил их на широкий пень.
Удивительно все же, что он и теперь видел дорогу, указанное ему место, дистанцию между собой и графом Таттенбахом и самого противника. Он ждал. До последней минуты ждал он тумана. Но все вокруг виделось так отчетливо, словно полковой врач никогда и не был близоруким. Какой-то голос начал считать: "Раз!" Полковой врач поднял револьвер. Он снова чувствовал себя свободным, даже задорным, первый раз в жизни задорным. Он прицелился, вспоминая, как некогда, служа одногодичником, выполнял стрелковое задание (хотя он и тогда был плохим стрелком). "Ведь я же не так близорук, — подумал он. — Мне никогда больше не понадобятся очки". С медицинской точки зрения это трудно объяснимо. Полковой врач решил полистать в офтальмологии. В минуту, когда ему пришло в голову имя крупного специалиста в этой области, голос сказал: «Два». Доктор все еще видел хорошо. Защебетала робкая птица какой-то неизвестной породы, издалека донеслись звуки труб. В этот час уланский полк выходил на плац-парад.
Во втором эскадроне, как всегда, ехал лейтенант Тротта. На ножны тяжелых шашек и стволы легких карабинов жемчужинами оседало матовое дыхание мороза.
Студеные трубы пробуждали спящий городок. Возницы, в толстых шубах, на обычной стоянке поднимали бородатые головы. Когда полк достиг луга, остановился, и солдаты, как обычно, выстроились в две шеренги для гимнастических упражнений, лейтенант Киндерман подошел к Карлу Йозефу и спросил:
— Ты ослеп? Посмотри, на кого ты похож?
Он достал из кармана кокетливое зеркальце и поднес его к глазам Тротта. В маленьком блестящем прямоугольнике лейтенант увидел лицо, давно и хорошо ему знакомое: пылающие узкие черные глаза, острый, костистый крупный нос, пепельно-серые впалые щеки и узкий, большой, плотно сомкнутый бледный рот, который, как давно заживший след сабельного удара, отделял усы от подбородка, Только эти маленькие русые усики показались Карлу Йозефу чужими. Дома, под сводами отцовского кабинета, меркнущее лицо деда было гладко выбрито.
— Спасибо! — сказал лейтенант. — Я не спал эту ночь!
Он пошел между стволами деревьев налево, туда, где тропинка сворачивала на широкое шоссе. Было семь часов сорок минут. Он не слыхал выстрела. Все хорошо, все хорошо, говорил он себе, свершилось чудо! Самое большое через десять минут должен подъехать майор Прохазка, тогда они все узнают. До него доносились шорохи просыпающегося городка и протяжные гудки паровозов с вокзала. Когда лейтенант подходил к тому месту, где тропинка сливалась с шоссе, показался майор на своем гнедом. Лейтенант Тротта поздоровался. "Доброе утро", — ответил майор. Всадник и пешеход не умещались рядом на узкой тропинке. Поэтому лейтенант Тротта шел позади коня майора. Минуты за две до луга (уже была слышна команда унтер-офицера) майор остановил лошадь, полуобернулся в седле и сказал только:
— Оба! — И затем, уже продолжая свой путь и скорее про себя, чем обращаясь к лейтенанту: — Ничего нельзя было поделать!
В этот день полк добрым часом раньше вернулся в казармы. Трубы звучали, как и во все другие дни. После обеда дежурные унтер-офицеры прочли солдатам приказ, в котором полковник Ковач сообщал, что ротмистр граф Таттенбах и полковой врач доктор Демант, как подобает солдатам, положили жизнь свою за честь полка.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В те времена, до европейской войны, когда происходили события, подобные тем, о которых рассказывалось на этих страницах, еще не было безразлично, жив или умер человек. Когда угасал один из толпы смертных, другой не заступал тотчас же его место, спеша изгладить память об умершем. Напротив, там, где его теперь недоставало, зияла брешь, и все близкие, равно как и далекие свидетели его кончины, каждый раз, завидев эту брешь, торжественно умолкали. Когда огонь выхватывал дом из ряда домов, расположенных по улице, пожарище еще долго оставалось заметным. Ибо каменщики работали медленно и с прохладцей, а ближайшие соседи и случайные прохожие, увидев пустое место, не могли не вспоминать об общем виде и стенах исчезнувшего дома. Так было тогда! Все, что росло, требовало много времени для произрастания, и всему, что разрушалось, требовалось долгое время, чтобы быть забытым. Зато все существовавшее оставляло свой след, и люди жили воспоминаниями, как теперь живут уменьем быстро и навсегда забывать.
Смерть доктора Деманта и графа Таттенбаха долгое время смущала и тревожила умы офицеров и солдат уланского полка, так же как и умы штатского населения. Покойников похоронили по всем правилам военных и религиозных обрядов. И хотя никто из товарищей вне своего круга ни единым словом не обмолвился о причине их смерти, горожане все же пронюхали, что оба они пали жертвой своих строгих понятий о "сословной чести". И отныне стало, казаться, что каждый из офицеров нес на себе знак близкой и насильственной смерти, купцам и ремесленникам городка эти чуждые им господа офицеры стали еще более чуждыми. Вслед им смотрели, покачивая головами. О них даже сожалели. У них много преимуществ, говорили себе люди. Они могут расхаживать с саблями и нравиться женщинам, император лично заботится о них. Но раз, два, три — не успеешь оглянуться, и один наносит оскорбление другому, а оно может быть смыто только красною кровью!..
Тем, о ком так говорили, и правда не стоило завидовать. Даже ротмистр Тайтингер, который, по слухам, был участником нескольких дуэлей со смертельным исходом в других полках, изменил свое обычное поведение. В то время как другие, шумные и легкомысленные, становились смирными и неслышными, этим тихим и тощим сластеной-ротмистром завладевало странное беспокойство. Он уже больше не мог часами сидеть за стеклянной дверью маленькой кондитерской, поглощая печенье, или безмолвно играть в домино и шахматы с полковником, а то и с самим собой. Он страшился одиночества. Он прямо-таки цеплялся за людей. Если поблизости не оказывалось товарища, он входил в лавку и покупал что-нибудь совершенно ненужное. Он долго торчал там, болтал о всякой ерунде с продавцом и не мог решиться выйти из лавки. Это удавалось ему, только когда он замечал на улице какого-нибудь безразличного знакомого, на которого он тотчас же и набрасывался. Вот насколько переменился мир! Казино пустовало. Веселые наезды к фрау Рези были отставлены. Вестовые слонялись без дела. Если кто-нибудь заказывал водку, то при взгляде на стакан ему сейчас же приходило в голову: не тот ли это, из которого несколько дней назад пил Таттенбах. Старые анекдоты, правда, еще рассказывались, но громко им уже не смеялись, разве что улыбались про себя. Лейтенанта Тротта во внеслужебные часы нигде не было видно.
Казалось, что какая-то волшебная рука мигом стерла с лица Карла Йозефа краску юности. Нигде во всей императорско-королевской армии нельзя было найти другого такого лейтенанта. Ему все казалось, что он должен сделать что-то особенное, но нигде ничего особенного не находилось! Само собой разумелось, что он должен был выйти из этого полка и перевестись в другой, но он все словно искал какого-нибудь трудного дела. В действительности же он искал добровольного искупления. Он не умел это выразить, но мы-то можем о нём это сказать: его несказанно угнетало, что он был орудием в руках несчастья.
В таком состоянии находился он, когда сообщал отцу о результатах дуэли и о своем неизбежном переводе в другой полк. Он промолчал о том, что при этом ему полагался кратковременный отпуск, так как боялся показаться на глаза отцу. Выяснилось, однако, что он мало знал старика. Окружной начальник, образцовый имперский чиновник, был знаком и с военными порядками. И странно, но он, видимо, также разбирался в горестях и смятениях сына; это можно было ясно прочесть между строк его ответа; ибо письмо окружного начальника гласило: