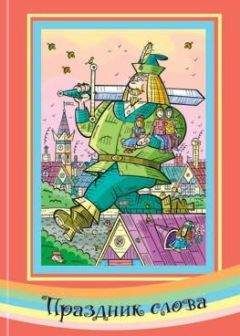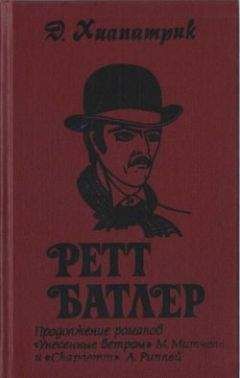Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Недавно началась «чистка» у самих энкавэдэшников. Их забирали одного за другим: днем из кабинетов, ночью из теплых постелей. Анна помнила, как два года назад выступала на даче НКВД вместе с другими актерами и музыкантами. Дом-дворец сиял огнями в черном зимнем лесу. Каждый вошедший прямо с мороза окунался в тепло и неожиданный аромат лилий. Горшки с лилиями стояли даже на полу и на устланных ковром ступенях широкой лестницы.
Пир был приурочен к какой-то революционной дате. В зале с до блеска натертыми полами столы были украшены букетиками свежих цветов, на накрахмаленных белоснежных скатертях лежали серебряные приборы. Гости со знанием дела читали меню, выбирая среди французских названий, и официанты бесшумно разносили все эти прозрачные консоме из перепелок, тоненькие телячьи фрикасе. Сидящие за столами были привычны к чужому подобострастию.
Анна развлекала их, изображая певицу варьете. Она так красиво страдала в дуэте с тенором, что лица мужчин смягчились, а их жены наконец перестали сравнивать себя с Пекарской. Это была нежность сытых людей.
После ужина все перешли в кинозал. Там гостям были предложены фрукты и необыкновенные пирожные, начиненные мороженым с коньяком. Официанты подносили к каждому пирожному зажигалку, и оно вспыхивало маленьким пламенем. Тут и там в полутьме затрепетали голубоватые огоньки, раздались восторженные возгласы…
И вот все эти значительные люди сгинули, словно и не жили на свете – сначала мужья, потом жены. Газеты не печатали сообщений о судах.
Максим многое знал об этом.
– Не переживай обо мне, Аннушка. Я везучий, – легко сказал он, обнимая ее. – Так что всегда буду тебя защищать. Что бы ты ни натворила.
– Что я могу натворить? Я трусиха и вообще очень законопослушная.
– Ну… Вдруг проткнешь Полотова своей бутафорской шпагой.
В дни разлук он писал ей совершенно несерьезные письма. А возвращаясь, целовал, как в самый первый раз – не столько губами, сколько сердцем. Бывший убежденный холостяк давно захотел перемен.
– Давай поженимся?
Почему-то ему было проще выговорить это на высотной площадке, когда они стояли рядом, глядя вдаль.
Теперь последнее слово было за Анной.
– Мы и так всегда рядом, – не сразу ответила она. – Представь, буду маячить перед тобой с щипцами для завивки и в халате. Везде раскиданы мои туфли, платья вперемежку с шахматными справочниками… И еще мама постоянно жужжит со своими причудами…
Максим внимательно слушал. «Рядом», «вместе» – похожие слова и в то же время разные. Как «дружба» и «любовь».
– Макс, если честно, то я просто не готова… Я, словно та принцесса из сказки, никак не проснусь.
Она осеклась, увидев его лицо.
Максим с горечью усмехнулся:
– Так долго не просыпаться. А тут еще и проходимец какой-то рядом пристроился.
Анна виновато потупила взгляд.
– Прости.
– Нет, ты меня прости, – искренне попросил он.
Это его расплата за боль, которую он причинял другим. За возвращения домой ранними утрами: в дорогом экипаже с рессорами – он, до конца не протрезвевший, с привязанным к петлице воздушным шариком. Легкость новых встреч и расставаний, невесомость красного шарика над помятым и довольным лицом. До Анны ему казалось, что так будет всегда.
– Аннушка, ведь я тебя совсем не тороплю.
Действие третье. Война

На август 1941-го у Анны была припасена мечта, которая пахла астраханскими арбузами, рекой и шлюзами. Начиналась она на аллее, ведущей к величественному зданию Речного вокзала. Там высоко в небе блестел шпиль со звездой, такой же большой и позолоченной, как звезды на кремлевских башнях, а на белоснежной веранде изгибались ландышевые фонари.
Повсюду сияло летнее белое на голубом. Возле пирсов стояли теплоходы, и нарядные люди с чемоданами готовились к посадке на этих ослепительных красавцев. Ладно, она согласна даже на допотопный пароход, только пусть он будет с зеркальными стеклами.
В июне ТОЗК находился на гастролях в Киеве, и Пекарская радостно делилась родным городом с друзьями (оставляя сокровенный ключ от него при себе). Она снова, как и тридцать лет тому назад, любовалась сквозь зелень Владимирской горки широтой Днепра и золотом маковок.
Ранним воскресным утром всех в гостинице разбудил главный комик. Он стучал в двери номеров: «Вы только посмотрите, что Осоавиахим выделывает в небе!» Артисты были уверены, что это его очередной розыгрыш, но все же, ворча и позевывая, вышли на балкон. Над городом, сбивая друг друга, носились самолеты. Немецкие летчики бомбили вокзал, советские истребители пытались их отогнать. Взвыли сирены.
Внизу располагался продуктовый магазинчик, перед ним с ночи ждала очередь. Люди с беспокойством смотрели на небо, но не спешили уходить, надеясь все-таки купить свои полкило сахара, больше в одни руки не давали. Очередь рассыпалась, лишь когда раздались выстрелы зениток и подбитый самолет, превратившись в огненный факел, с воем устремился вниз.
Страна еще ничего не знала, и Москва не знала. Еще не выступил по радио Молотов и не начал, заикаясь: «Граждане и гражданки!» А киевляне уже знали. В городе горько заплакали девушки, и мужья сердито сказали женам: «Доигрались, твою мать! Риббентроп, Риббентроп!» Кто-то засобирался в военкомат, кто-то обрадовался, что придут освободители от большевиков. Мальчишки возбужденно, почти радостно кричали: «Немец бомбы кидает! Мы воюем с немцами! Гитлер, вот дурак! Не понимает, на кого напал. Да наша армия скоро будет на границе с Германией!»
Театр показал еще три спектакля, они прерывались объявлением воздушной тревоги. Зрителей становилось все меньше. Двадцать четвертого числа, когда был разбомблен Минск, в Киеве началась паника. Режиссер собрал труппу и объяснил, как вести себя при немцах, чтобы сразу не расстреляли.
Театру все-таки удалось уехать. Они влезли в последний поезд: рядом люди карабкались на крыши состава, через окна передавали детей с приколотыми к их одежде бирками. Вагоны, в которых находилась большая часть театральных декораций и костюмов, отсоединили. ТОЗК вернулся в Москву без них. Но в череде начавшихся потерь эта потеря оказалась далеко не самой страшной.
Первые дни сознание цеплялось за какие-то мелочи, важные в мирное время. Анне было жалко, что в августе она не поплывет по Волге. Ведь вряд ли этот кошмар закончится до осени. Ей не хотелось расставаться с мечтой, в которой она стояла на палубе, любуясь закатами.
Москвичи тоже пока держались за видимость довоенной жизни: в городе продавали газировку и мороженое, в кинотеатрах шли прежние фильмы, а стрелки часов на Пушкинской площади по-прежнему безотказно показывали время всем, кто, волнуясь, ждал свидания под бронзовым поэтом. Но уже для светомаскировки были выданы темные шторы из какой-то невиданной плотной бумаги, и в городе появились растерянные женщины с детьми и огромными узлами. Это были первые беженцы.
По улицам нестройно замаршировало ополчение. Ночью добровольцев увозили на фронт: бесконечный поток городских автобусов тесными рядами мчался по Садовому, поворачивал в сторону Бородинского моста, стремясь к Минскому шоссе и дальше на запад.
Самая первая сирена воздушной тревоги прозвучала в три часа ночи. Анна с мамой спустились в бомбоубежище. Там шумели вентиляторы, играли дети и пахло валерьянкой. Взрослые сидели бледные и собранные. У кого-то на руках были младенцы, у кого-то кошки или собачки. Одна бабуля притащила клетку с попугаем. Мама взяла с собой пяльцы с начатой до войны вышивкой.
Мальчик лет пяти успокаивал свою сестренку:
– Не бойся, немцы нас не сбомбят.
Сидевшая рядом с мамой женщина вздохнула:
– Еще вчера я ныла из-за таких пустяков, грешила против своего счастья.
– Да все мы тут грешники, – зашевелилась другая.