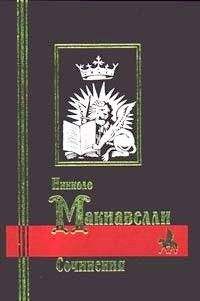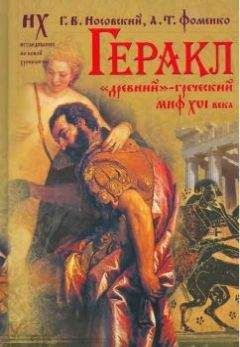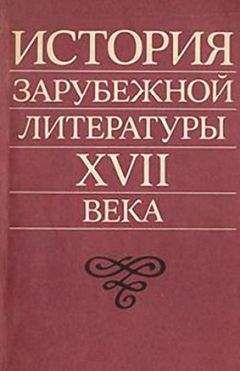Валерий Язвицкий - Княжич. Соправитель. Великий князь Московский
– Милый ты мой, – шептала ему Дарьюшка, – будто век тя не видела! Ненасытно к тобе сердце мое…
Иван Васильевич жадно прижал ее к груди своей и, целуя, заговорил прерывисто и вполголоса:
– Как один яз с тобой, Дарьюшка, так от мира всего ухожу. Будто и нету у меня государствования, будто нет у меня никаких забот и горестей. Будто яз да ты одни токмо во всем свете!.. В душе ангелы Божьи в радости крылами трепещут, а в сердце токмо радость любовная.
Когда Дарьюшка села на пристенную лавку, лег он вдоль стены, положив голову на колени своей возлюбленной. Чувствует он, как перебирает она теплыми пальцами его густые кудри, смотрит снизу на милое лицо ее. Сладко ему от ее нежного тела и от особой, словно материнской ласки. Видит он красиво закругленный подбородок и пушистые ресницы вокруг сияющих глаз.
Склонилась над ним та самая Дарьюшка, что ведома ему с тех пор, как только он помнит себя, с самого раннего детства… Думая о Дарьюшке, думает он иногда и о делах государственных, но эти думы его идут, как два потока, рядом, то соединяясь в один, то опять разделяясь надвое.
– Ныне вот, Дарьюшка, – говорит он, ласково обнимая гибкий и податливый стан ее, – будем мы бить казанцев, удар за ударом, пока совсем не разорим гнездо сие поганое, разбойничье.
– Помоги тобе Господь, Иванушка, в сих трудах великих. Добром тя все христианство помянет. Особливо сироты и все черные люди. Народ-то боле всех страдает от поганых. Ведь князи, бояре, купцы и даже монахи святых обителей теснят и зорят их, а опричь того, и от татар им наигорше всех. Ежели от богатого отнять, то ведь токмо избыток умалить, а у бедного отнять, все едино что шкуру с живого содрать.
– Верно, Дарьюшка, – воскликнул Иван Васильевич, – верно, родимушка моя! Душа твоя чистая да жалость сердечная легко правду постигают. – Иван приподнялся и, обняв ее, поцеловал долгим поцелуем. – Вот и яз, люба моя, – заговорил он тихо и задушевно, – хочу с отроческих лет моих первее всего иго татарское с Руси снять, а там уж всем легче жить будет.
Иван вдруг замолчал и взволнованно стал ходить вдоль покоя. Дарьюшка с восторженной улыбкой на разгоревшемся лице следила за ним блестящими глазами.
– Дай Бог, дай Бог, – говорила она радостно.
– Послал яз, Дарьюшка, – продолжал государь, – послал воевод, дабы бить по Казанскому царству. Удумано мною, Дарьюшка, как, откуда и чем бить Казань! Не люблю яз войны, Дарьюшка, но сие неминуемо. Вот князь Семен Романыч бить будет и пустошить уделы казанские, особливо же Черемису, дабы отнять у казанцев все, для пропитания им нужное, а Холмский да Стрига, нижегородцы да муромцы с земель своих гнать будут разбойников, бить и в полон брать. Крепко почнем шатать мы поганых!
– Вот хорошо-то! – воскликнула Дарьюшка и, улыбаясь, добавила: – Помню я, Иване, как в детские еще годы наши Илейка кол на дворе от колеса для катанья на санках по весне из земли вымал.
Иван ласково улыбнулся и спросил:
– Не от тех ли санок, на которых катал яз тобя?
– От них самых, – улыбаясь, продолжала Дарьюшка. – Снег-то, помню, уж весь сошел, а земля в глубине еще мерзлая была. Вот Илейка снял колесо-то с кола да как по нему другим колом хватит изо всей силы с одной стороны. Обошел да ударил с другой, а потом с третьей и четвертой стороны. Земля круг кола отошла, а Илейка ухватил кол, качнул его из стороны в сторону и сразу, как репку, из земли выхватил.
Иван Васильевич рассмеялся веселым смехом.
– Так и яз, Дарьюшка, – воскликнул он, – расшатаю вот и враз вырву с корнем все зло казанское!
Дарьюшка всем телом приникла к нему и зашептала:
– Иванушка, солнышко мое! Помоги те Бог в добрых делах…
– Радость моя сладкая, – так же тихо и взволнованно шептал ей в ответ Иван, – первая и последняя любовь моя…
Глава 12
На походе
Недель уж пять прошло с тех пор, как воеводы московские в поход на Казань выступили. Вот и зима в половине – тринадцатое января настало, а гонцов от них нет. Иван Васильевич стал нетерпеливей и тревожней ждать вестей из Черемисы от князя Семена Романовича Стародубского. Как-то у матери своей, княгини Марьи Ярославны, за завтраком молвил он брату Юрию:
– Без тобя, Юрьюшка, воеводы наши мало борзости кажут. Скорометливости воинской у них не хватает.
– Вельми уж ты прыток, Иванушка, – заметила старая княгиня, – сам ведаешь, как бездорожно там, в лесных дебрях, да и зима-то ныне вельми вьюжна и студена.
– Истинно сие, матушка, – заметил Юрий, – все же мыслю яз, будь Федор Василич Басёнок али Касим-царевич, прытче дела-то пошли бы. Уметь надобно воям силы прибавить. На Николу ведь от Галича пошел князь-то Семен Романыч.
– А вон вижу в окно, – перебила его Марья Ярославна, – вестник на двор пригнал. К хоромам его Ефим Ефремыч ведет. Глянь, сыночек.
Князь Юрий поспешно подошел к окну.
– Верно, вестник, – сказал он, – токмо не русский, а татарин.
– Ордынский? – спросила княгиня с тревогой.
– Нет, – разглядывая гонца, продолжал Юрий, – по обличью будто из наших татар, а все же неведом мне.
– Не от Касима ли? – заволновался Иван Васильевич.
Прошло несколько времени. В трапезную торопливо вошел дворецкий Данила Константинович.
– Вестник, государь и государыня. От Даниар-царевича. Как прикажете?
– Можно, государыня, в твои покои позвать? – спросил Иван Васильевич.
– Веди сюда, Данилушка, веди, – молвила старая княгиня.
Иван Васильевич, взглянув на сидящего за столом сына, тихо сказал брату:
– Молодше Ванюшеньки моего, Юрий, мы с тобой были, когда впервой Касима в Ярославле встретили.
Он замолчал, видя прошлое, словно вчера оно было. Обрадовался тогда царевичу слепой отец, говорил с ним по-татарски, и слезы текли у него по щекам, слезы были на глазах и у царевичей…
– Помнишь, Юрий, – снова обратился великий князь к брату, – как похож был тогда Касим на Юшку Драницу?
Отворилась дверь, и вестник-татарин пал ниц перед государями, касаясь пола своим подбородком.
– Живите тьму лет, государь и государыня, – заговорил он довольно чисто по-русски.
– Встань, – молвил Иван Васильевич, – сказывай.
– Слушаю и повинуюсь, – проговорил вестник почтительно и, встав перед государем, продолжал: – Царевич Даниар, да будет к нему милостив Аллах, повестует: «Целую руку твою, государь мой, да пошлет Господь тобе многи лета. Сердце мое в тоске, и душа моя в печали – умер отец мой, царевич Касим, да возьмет его Аллах многомилостивый в сады Джанят…[202]»
Иван Васильевич в горести закрыл лицо руками. Успокоившись, он набожно перекрестился.
– Хошь и татарин он был, а много добра христианам на Руси содеял, – сказал он с волнением и, снова крестясь, добавил: – Помилуй его, Господи, прости его заблуждения. – Повернувшись лицом к вестнику, государь сказал: – Повестуй царевичу: «Скорблю яз о верном друге моем Касиме. Тобя ж, Даниар, жалую вотчиной Касима, служи нам честно, как отец твой…»
Недели через две после смерти Касима-царевича прибыли и от князя Семена Романовича Стародубского первые гонцы. Воевода Стародубский доводил до государя, что рать его в самое крещение пришла в землю черемисскую и много зла учинила земле той: множество людей убили, а иных в плен увели. Много сожгли сел и деревень, скот весь забрали, коней и всякую животину. Что же взять не могли, на мясо перерезали. Так и с имуществом поступали: что могли – брали, остальное жгли.
– Испустошили так, – закончили вестники, – всю землю черемисскую, до Казани не дойдя токмо на един день пути.
Пришли вести и от Мурома и от Новгорода Нижнего, что русские воины и вольные дружины, идя вдоль Волги, повоевали по обе стороны реки все земли казанские.
Рад был этим вестям великий князь и сказал дьяку своему Курицыну:
– Бить татар надо и зорить еще боле, не давать им отдыху, дабы не могли оправиться. Юрий Василич о сем сам знает и меры принимает. Ты ж, Федор Василич, со всеми удельными сносись: пусть народ подымают на вольные дружины, где сопредельны с Казанью-то. Зорят пусть, что могут, и жгут, а купцов казанских грабят и бьют на всех путях.
Иван Васильевич ходил по покою своему крупным шагом, как обычно, когда волновался.
– «Казан», – продолжал он, – по-ихнему «котел» значит. Пусть кипит весь, а казанцы в нем варятся. Мы же, пока кипенье сие бурлит, новую рать посильней против них соберем. Яз сам в сей рати великой с полками поеду.
– А нужно ль тобе, государь, самому идти? – возразил дьяк Курицын. – Сам ты верно говоришь, что государю подобает более государствовать, а не на коне скакать. Видеть все с высоты своей и токмо повелевать боярами, воеводами и дьяками, что надобно им творить.
– Верно, Федор Василич, – усмехаясь, перебил его государь, – но бывает, что надобно и самому государю лик свой пред воями показать. В некоторых случаях и ратное дело в государствование входит, а пошто – сам, чай, разумеешь.