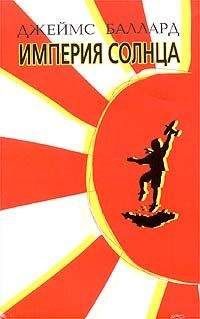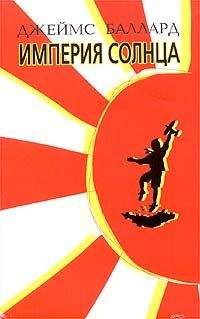Михаил Садовяну - Братья Ждер
«Не знаю, что можно выведать у столь скрытного человека, — думал конюший Маноле. — Однако отважимся подойти к делу издалека и дадим понять, как велико у нас желание узнать, где пребывает сын наш по имени Ионуц Черный. Но как начать разговор? Было бы хорошо, чтобы каким-то образом начал его благочестивый отец Никодим; но отец Никодим молчит».
Амфилохие вдруг обернулся и остановил свой взгляд на конюшем Маноле. На бледном лице архимандрита засветилась улыбка.
— Вижу, конюший Маноле, что ты намереваешься спросить меня о сыне твоем младшем…
— У Маноле по спине пробежали мурашки.
— Да, хотел спросить, отец архимандрит…
— Знаю, что хотел бы ты спросить, но прошу тебя, не спрашивай.
— Боярыня Илисафта жаждет знать, куда послан сын ее: на восток, на юг или на запад.
— Не отвечу тебе на это, конюший.
— Скажи хотя бы — жив он или мертв.
— И на сие не дам ответа, честной конюший. Ты ведь мужчина и должен понять меня. А супруге скажи, что бог милостив.
Конюший вздохнул с облегчением.
«Что поделаешь! Скупому спасибо и за ломаный грош. В словах архимандрита есть луч надежды, не токмо для слабых женщин, но и для мужей, кои считают себя сильными».
ГЛАВА IX
Множится род конюшего
Та же закопченная мельница с чуть покосившимися подпорами и прогнувшимися потолочными балками. Старая мельница близ городища. Здесь устраивают привал странники, идущие с четырех концов света, а крестьяне и рэзеши привозят сюда зерно на помол. Здесь обсуждаются всякие вести и предсказания. Но старый мельник дед Иримие ничего не слушает; то уйдет за мучной ларь и остановит мельничный пест, передвинет насып, как раз в ту минуту, когда любопытные вытягивают шею, чтобы лучше слышать рассказчика; то запустит толкач в насып, и, обойдя гостей, поднимется на ящик с зерном, и проверит, как оно мелется; а иной раз, как смолкнет разговор, выйдет, отведет воду от желоба, и тогда сразу стихнет грохот на мельнице. У старого мельника свои причуды; на людей он привык смотреть исподлобья. Говорят, что узнать человека и запомнить его лицо можно лучше, ежели молча приглядываться к нему вот эдак, исподлобья. Иногда и заговорит мельник Иримие, но только уж в том случае, ежели посчитает, что это действительно необходимо. Ходят слухи, что когда на его мельнице не остается ни единой души, когда даже ветер не посвистывает в камышовой крыше и только дрова, потрескивая, вспыхивают в старом очаге, тайно проникает на мельницу тот, о ком мы никогда не вспоминаем, не перекрестившись, и шепотом советуется с дедом Иримие. Бес этот будто бы сын старого Иримие, и будто бы вылупился он из подброшенного яйца, которое Иримие носил под мышкой в течение девяти недель. И когда бес вылупился однажды в полночь, при отблесках вспыхивающих углей, дед, чтобы не сглазили, плюнул на него и пустил в реку. А вскормил и взрастил беса сам сатана и теперь время от времени посылает его к старику, дабы тот порадовался. Никто его не видит, никто его не слышит, однако известно, что этот бес существует.
А доказал это зайчишка.
Два пса неких рэзешей из Спиноасы выгнали как-то из кустарника старого и хитрого зайца. Он помчался вдоль рэзешской межи, которая в Спиноасе, как известно, тянется на три тысячи сажень; доскакав до окраины городища, он стал петлять, свернул под гору, потом помчался вдоль пруда, обогнул мельницу. На бегу перекувырнулся, прыгнул в сторону и пробрался на мельницу через какую-то дыру. Точно так поступил когда-то и другой заяц из той же Спиноасы. На мельнице, как всегда, было полно людей, колесо скрипело, жернова прилежно крутились. Словно мгла, стоял легкий дым. Заяц притаился в уголке и спокойно пережидал. Собаки рэзешей, тявкая, пробежали вблизи и потеряли его след. Заяц поглубже забился в кучу пыли, муки, золы и задремал. Пока тянулись людские разговоры и гудела мельница, косой беззаботно отдыхал, но как только все успокоилось, зашевелил носом, а когда вдруг остановилась мельница и вода с шумом хлынула в омут, он испуганно вздрогнул, дважды стукнулся головой о перегородку, отыскал дыру, через которую проник, и вновь умчался, будто вылетел из пушки немецких наемников господаря.
Вот так же, когда на закате затих грохот мельницы, боярин Маноле и преподобный Никодим проснулись, вскочили, настороженно огляделись. Мельник ухмыльнулся; он сидел на камне перед очагом, из которого струился дым от головешек.
— Пожалуйте, ваши милости, поближе, — сказал он. — О конях не тревожьтесь, они тут, за дверью; как вы приказали, я задал им ячменя. Для вас приготовлена добрая мамалыга, а плотвичка только что поджарилась. Дабы вы не осерчали, как давеча, и не посчитали меня обманщиком. У других проезжающих я допытываюсь, как идут дела и туго ли набита у них мошна, но вас не испытываю. Ваши милости — знатные бояре из Верхней Молдовы.
— Каждый сам себе боярин… — хмуро проворчал Маноле.
Мельник смиренно поддакнул.
— Это так, но истинного боярина сразу узнаешь по тому, как он достает кошелек и расплачивается. Другие смотрят, как бы им перепало задарма. Не прогневайся, почтенный боярин Маноле, возьму я с тебя за ячмень для коней (добрые кони!) и за все остальное три медных гроша и доброе слово в придачу.
— Я честно расплачусь, — надменно ответил старик Маноле.
Мельник подвинул щепочкой рыбу к деревянному кружку, на котором дымилась мамалыга, разрезанная ниткой на четыре части. Потом сказал:
— А что мог мне заплатить сын твоей милости, конющий Ионуц Ждер? Вот я его и кормил чужими яствами.
— Разве он проезжал здесь?
— Проезжал.
— А сказал, куда направляется?
— Когда он сюда прибыл, честной Маноле, ясно было, что его позвал князь. О том же, куда направляется, мог ли он сказать? Это государева служба. Да, да, я здесь уже давно научился порядкам.
Старый Маноле вновь помрачнел. Мельник покачал головой, глядя на него исподлобья и подмаргивая своему бесу.
— Я, знаешь, почтенный боярин Маноле, эти порядки хорошо узнал за пять лет, с того самого времени, как князь раскинул свой стан в Васлуе. Веришь ли ты мне?
— Верю. Почему бы мне не верить?
— А хочешь расскажу, как я тут очутился?
— Хочу, отчего бы и нет?
— Не серчай, почтенный боярин, ты говоришь будто чужим голосом. Знаю, тебя донимает тревога, оставь ее! Когда я расскажу тебе мою историю, твоя покажется тебе пустяшной. Да благословит меня святой иеромонах поведать все без смущения. Когда я вспоминаю прошлое, во мне закипает злоба. Так что благослови меня, святой отец.
— Да смилуется бог над тобой, — проговорил Никодим, осеняя мельника крестным знамением.
— Целую твою десницу, отец. Да будет ведомо вам, честной конюший и досточтимый инок, что тридцать шесть лет тому назад я с двумя своими братьями жил у Прута, в краю Фэлчиу, в угодье, доставшемся нам от нашего отца Мэнэилэ. Род наш недавно там поселился; сменилось только два поколения, мы были третьими. Мой отец Мэнэилэ хорошо помнил, как пришел он с дедами из-за гор, по княжескому повелению, приведя туда, к Пруту, овец, ослов и слуг. Поселились мы в Мэнэилешть и радовались простору и изобилию. Прежде всего перед нашими глазами был не только лес; бурные весенние потоки не разрушали наши дворы. Там, где мы проходили с плугом, из одного посеянного зерна вырастала тысяча. Говорят, что просо в тех краях без шелухи. Мы перегоняли скот то в одно место, то в другое, пастбищ для овец было много. Правда, некоторые рэзеши, поселившиеся там раньше нас, говорили, что хорошо-то, мол, здесь хорошо, да опасно. Через каждые три года бывает засуха; через каждые тридцать три года нападают татары. Но засуха нас не страшила, у нас были запасы, да и опасность от татар была уже не так велика, как прежде. Владения господаря раскинулись далеко. И нас поселили там для того, чтобы охранять их. Мы расселились у Прута, а другие еще дальше, в степях.
Жили мы в достатке и довольстве до тех пор, пока не нагрянули татары. Один отряд появился в хотинской, другой в лэпушненской земле. Те, что ударили на Лэпушну, забрались и к нам, в Мэнэилешть. Вы ведь знаете, как богопротивные разбойники стремглав налетают и уходят. Пока катилась весть по стране и пока мы увидели маячные дымы на далеком холме Орлат, татары уже были в загонах и хозяйничали там, как волки. Мы не успели ни скрыться, ни дать им отпор. Всех нас, весь род Мэнэилэ, схватили и погнали в Крым. Я попал в рабство к мурзе Дауду, и он повез меня в место, которое на их языке называется Тучная долина. Татарские овчары приносили мне сыворотку из-под сыра, я кипятил ее и осадок с крупинками сливал в мешочки, приготовляя урду [61].
В том краю ногаев, который зовется Крымом, никогда не слыхивали об урде. Что делали с сывороткой эти нехристи, я не знаю, должно быть, выливали собакам.