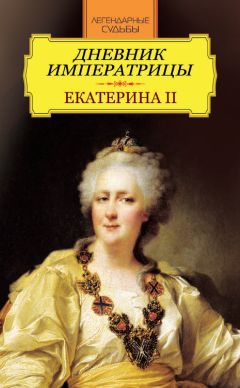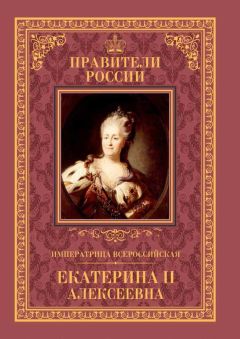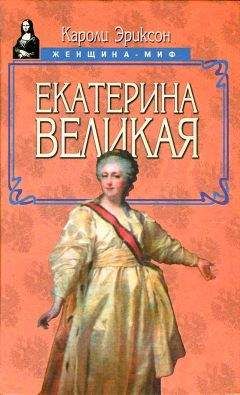Борис Поляков - Кола
– «В противном случае, – у благочинного лист в руках вздрагивал, – город будет через час подвергнут артиллерийскому обстрелу и уничтожен...»
Молчание глубокое. Взгляды в сторону, в себя, в землю. Бруннер медленно взял ультиматум. У него в глазах тоска безысходная. Пайкин трется подле исправника, бок о бок, шепчет что-то ему. А его прихлебатели разошлись, меж колян колышутся их картузы. Но один из них влез на камень.
– Люди добрые! – Голос увещевающий. – Все слышали: они обещают сохранить нашу собственность. Так стоит ли ради цейхгауза инвалидных да двух пушчонок дерьмовых лишаться всего имущества?! Пусть возьмут они их. Англичанам нажива невелика, а царю убытки тоже невесть какие. Зато ведь останутся целы наши дома, будет стоять наш город. Они нас не просто пугают, а миром предупреждают...
– Да, да! Не пугают! – Шешелов узнал младшего из кузнецов-братьев. Крикун. Весной на собрании всех взбаламутил. И теперь влез на камень. – Пушки не для испугу! Мирно предупреждают: или живьем зажарят в городе, или нам в кабале жить до смерти. Догола разденут, и чтобы срам на виду торчал. Я с последним согласный! Я до гроба проживу голым! – Он рванул у рубахи ворот, махом скинул ее, полуголый стал у всех на глазах расстегивать и портки. – Не боись! Раздевайся все догола! Проживем! Ходить станем глазами в землю!
– Афанасий! Рехнулся, что ли?! – закричали из толпы.
– Афоня!
– Стыдобища!
Голоса вразнобой, не разберешь, чего все хотят.
– Что?! – кричит Афанасий. – Не по душе?! То-то! – И придерживает расстегнутые портки рукой, машет Шешелову. – Несогласные, вишь, нагишом! Не совсем еще стыд потеряли! Пусть уходит офицер! Откажите!
Исправник подталкивал Афанасия с камня, укорял, строжился и сам влез на камень, подождал, пока поутих ропот.
– Старые люди помнят! – закричал неожиданно высоким голосом. – Приходили уже англичане в Колу. И буянили, и стреляли спьяну. И кое-что взяли себе, было. Но потом они все ушли, а коляне остались. И город остался цел. Так ведь, граждане старики?!
Благочинный закашлял с досадой, вызывающе громко, и исправник встревоженно оглянулся, встретил хмурый взгляд Шешелова, смешался. Ропот возрос. Пайкин стал проталкиваться к исправнику. Он, пожалуй, не решился бы в другое время, а теперь степенно влез на валун, снял картуз, поклонился.
– Посмотрите, что в руках инвалидных! – заговорил. – Ружья старые, как и они сами. Это супротив пушек. Из этих ружей отцы и деды наши стрелять не стали еще полвека тому назад. Город нам сберегли, сохранили себя живыми. Они разумные были люди и умели наперед думать. Не о гордыне своей пеклись.
– Врешь, Пайкин! – Матвей прохрипел криком.
– ...И сейчас нам наперед говорят: собственность будет сохранена...
– А где моя шхуна, Пайкин?! – закричал сын Герасимова. – Где лодьи Хипагиных и Базарных?! Шняки других колян?! Али ты не наслышан?! Повсюду жгут и топят суда, грабят дома, церкви. Али тебя не коснулось, Пайкин?!
У Пайкина острый с прищуром взгляд. Держится он спокойно, голос смиренный, крепкий.
– Не один ты задет, Кир Игнатыч. Я тоже пострадал, все знают. Но зачем же других пускать по миру? Зачем колян лишать крова, где жили отцы их, деды? Пушки не манной станут стрелять. Город сожгут, многих колян убьют. Гляди, это вдовы завтрашние, сироты. Куда ты велишь им деться? Не за горами зима, голод. Так зачем обрекать людей на муки? Зачем проливать кровь?
– Верно! – крики. – Зачем?!
Так же, походя, провалили собрание в марте. А норвеги весною и вправду могли прийти.
– Мало ты задет, Пайкин! – кричал сын Герасимова. – Пусти их в Колу – последнее потеряешь! Пусти – будут вдовы, сироты, горе во всем Поморье! Их гнать надо! Не давать им ступить на землю! А ты потакать хочешь!..
Картузы ближе придвинулись к сыну Герасимова, перебивали, толкали его. Он бранился на них прескверно и отбивался, у него тоже нашлись заступники, нарастал шум, возникала драка. Туда заспешил Матвей, размахивал батогом, хрипел.
– Размозжу-у!
– Чем погоните? Чем? – Пайкин старался вернуть внимание.
Матвей страшный, кожа да кости, влез сам на камень, навис коршуном над людьми.
– О чем спорите? – хрипел темным ртом. Глаза навыкате. – Забыли, на чем стоите?! – метнул рукой на корабль. – Там есть уже один русский. Будь проклят он! Будь проклято чрево его матери! Идите, кто хочет еще проклятья. – И чертом пялил глаза на Шешелова, словно ему кричал хрипом, приказывал и молил: ну же ты! Ну-у!
– Пожалуй, что все решили, – сказал Шешелов. – Ультиматум пора отклонить, считаю. Не надо им позволять высаживаться на берег.
– Да, скажите, – Бруннер весь в нетерпении. – Отклоняем мы ультиматум. Здесь земля Российского государства. И мы не позволим чужеземцам высадиться на берег.
Глаза офицера стали еще светлее. Ответил что-то негромко.
— Говорит, что это безумие, – перевел благочинный. – Через час пушки будут стрелять.
– Сами уж как-нибудь, без его жалости обойдемся, – сказал Шешелов и попросил Пушкарева: – Проводите его, пожалуйста. Не обидели бы дорогой.
Пушкарев повел офицера берегом. Коляне за ним смыкались, теснились, обступали Шешелова. В первых рядах уже слышали, что сказали парламентеру. Герасимов в окружении стариков влез на камень, огляделся и снял картуз. Обнажили головы старики и за ними еще и еще поморы. Кругом становилось тихо.
– Сколько бы мы ни спорили, ни кричали, а мы одной веры с вами, люди русские. И судьба у нас одна с Колой. Колянам выпала доля стоять против врага. Так неужто мы опозорим имя свое? Неужто на Мурмане и в Поморье будут показывать на нас пальцем и плевать в нашу сторону?
– Нет! – крик хлестнул как бичом, и сразу ему завторили зло и громко.
– Не бывать.
– Не надо позора!
– Лишимся имущества, а не пустим!
Какая-то баба заголосила, запричитали другие, в испуге заплакали детишки, поднялся шум, и сердце гулко ударило раз, другой.
Шешелов стиснул зубы и медленно втянул в себя воздух: не ко времени.
– Жителей надо скорее эвакуировать, – сказал Бруннер.
– Теперь уже непременно, – отозвался отец Иоанн.
– И вот еще что, – трудно сказал им Шешелов. – Какие есть у кого припасы, заложить в погреба, в подполья. Ценное зарыть в землю. Инвалидным и добровольникам рыть окопы по туломскому берегу до редута. Пожарных держать в городе наготове.
И почувствовал: сердце совсем отказывает служить. Не свалиться бы прямо сейчас на землю. Повернулся и, не слыша ничего больше, пошел выше по берегу, к туломским амбарам. Сесть бы там в холодке под навесом да воды бы один глоток!
85
Шешелов трудно дошел до первого из амбаров. В сердце что-то сдавило, ни выдохнуть, ни вдохнуть, от боли испариной разлилась слабость, и, без сил уже, под навесом, отрешенно и будто не о себе подумал, что его суета земная может сейчас окончиться, прямо здесь, на ступеньках, успокоится он не соборованный, без исповеди и покаяния. И щекой привалился к стене деревянной, замер, смиряя, сколько мог, боль: не сейчас бы только, не здесь. С друзьями надо проститься, сказать: готов поклониться колянам за то, что они на изломе судьбы решили сами – у людей непременно должна быть честь. И не жаль головы за нее, ничего во имя ее не жаль. А иначе и вправду на кой черт жизнь да и весь белый свет с нею? И отер с лица липкий пот, расстегнул мундир и откинулся медленно весь к стене: сердце муторно стучит, квело, но похоже, что обойдется и в этот раз.
От ближних домов доносился тревожный шум. Шешелов слышать стал выкрики, причитания и плач навзрыд. Всполошенные кудахтают куры, взлаивают собаки. Там дома собираются покидать. Суета там, растерянность, боль души. Ультиматум «Миранды» на это рассчитан был, как удар ножом в спину защиты города: частная собственность будет сохранена. И враз пайкины всколыхнулись. Да и всем разве просто нажитое бросить, предать огню? Вложены годы и годы труда и пота. Ну, возьмут с собою в эвакуацию узлы, крохи. Ну, пойдут со скарбом за Соловараку. А что будет завтра? Пепелище? Чужбина? Нигде и никто не ждет с объятиями. А если наступит потом раскаяние и они обвинят во всем Шешелова и проклянут?
Шешелов сидел в горьком оцепенении. А разумно ли он настаивал? Про эвакуацию в Кандалакшу губернатор ему не ответил. Предписанье начальственное не дал. Он послал Пушкарева, Бруннера. А Бруннер вчера еще мог погубить людей, сам погибнуть.
От амбара видно спокойную в берегах Тулому, залитую солнцем, корабль на ней и стоящие в козлах ружья колян по берегу. Инвалидные и добровольники там уже принесли ломы, лопаты, растянулись цепью до мыса, роют спеша окопы и нет-нет да оглядываются на пушки.
На «Миранде» палуба опустела, спущен переговорный флаг. Пушки зияют черными дырами на борту. Страшилище. Будь ты проклят, окаменей! Стань ты островом на Туломе! Будет рядом с Немецким еще один. Приходили чудища за века сюда, в разных обличьях, грозили силой. Память и ныне хранит легенды. Этот тоже требует и грозит. Наказать бы ладом за дерзость...