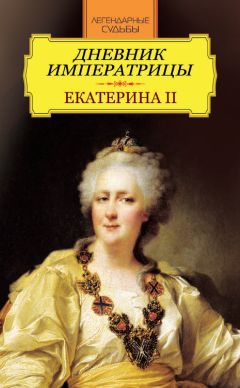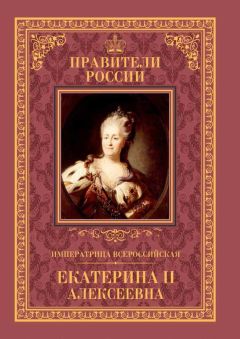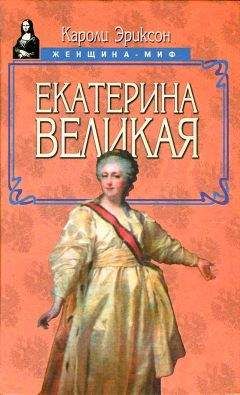Борис Поляков - Кола
А на острове Монастырском наконец показался бруннеровский отряд.
Коляне там шли как на летних работах, небрежно несли на плечах ружья, словно косы и грабли. Шешелов сосчитал их и раз, и другой. Откусил еще трески, хлеба. Есть очень хотелось.
Отряд возвращался полностью.
Рядом с младшим Лоушкиным идет белокурый ссыльный, которому Шешелов обещал выхлопотать свободу. Это следует непременно сделать. Удивительные качества души может пробудить в людях забота об отчизне. Бруннер рассказывал: нынче в июле шесть узников Соловецкого монастыря выпросились у настоятеля в добровольники защищать монастырь от англичан. И архимандрит не испугался, что сбегут они, разрешил. А ведь среди них были и из противоправительственного Кирилло-Мефодиевского тайного общества... Казалось бы, ну зачем все это и настоятелю, и арестантам?
Младший Лоушкин первым подошел к шняке и увидел Шешелова на берегу, поднял над собой ружье. Потрясая им, он орал, перекрикивая шум Колы:
– Не пустили! Не пустили мы их!
– Ишь, – сказал караульный Максим. – Говорю я: ни с чем ушел кораблишко.
Максим тоже, наверно, сосчитал отрядников. Он поднял ружье за ремень и пошел к верхней слободке. Дарья настороженно заглядывала Шешелову в глаза:
– Ты про ссыльного-то не забудешь похлопотать?
Но Шешелов – больше из суеверия, что не сбудется, – не хотел ей ответить: да. Он смотрел мимо Дарьи на пепелище голое, трубы, чадящий жар, дым.
– Окстись, Дарья. В уме ты? Время ли сейчас?
У Дарьи лицо в слезах.
– Время, батюшко. – Она сказала это покорно и ладонью вытерла слезы. – Девка-то на сносях ходит.
На верхней слободке пожар еще сильный. Из Колы черпали воду ведрами, подавали их по цепи к крайним домишкам. А еще надо угли потом залить, головни во всем городе да найти и отрыть спрятанное в земле.
– Работы вон сколько, Дарья. Не до этого пока.
– А ты все же похлопотал бы. – И зазвучали упрек и обида в голосе. – А то, сказывали намедни, уехать хотел от нас.
На тушении пожара с отрядниками Пушкарева были Герасимов, благочинный. Шешелов обрадованно увидел их. А ведь он свое обещание не покидать Колу им тогда не успел сказать.
– Ты и впрямь не в уме, – ответил Дарье сердито. – Такого и в мыслях у меня не было. – И пошел от Дарьи к верхней слободке, доедая на ходу хлеб и рыбу. Воды бы теперь попить.
К пожару пройти можно только сквозь цепь колян. Бабы, девки и старики беспрерывно подают в ведрах воду из Колы. А дальше отрядники у огня: с водой, баграми, лопатами. Какие-то крохи от города можно еще спасти, чтобы было где для начала укрыться от непогоды. А на зиму надо уже теперь рыть землянки, ставить в них печи.
Он едва не наткнулся на писаря. Матвей вышел из цепи колян и стал ему поперек пути. В руках поднятое ведро с водой. Шешелов выдержал буравящий взгляд писаря и понял, что это мир. Сунул в рот остатки трески и хлеба, склонился к ведру и долго пил холодную, немножко с мутью, воду Колы-реки. Потом отер рот и снова глянул на писаря.
– Ты вот что, зайди-ка после. Бумаг надо много теперь писать.
– Ладно, – скрипуче сказал Матвей. – Зайду.
Шешелов прошел сквозь цепь колян и на миг усомнился: куда он велел зайти Матвею? Как Дарья, как сотни других колян, он тоже остался без крова. Вот и он стал как все. Теперь стал.
Он давно уже таким не был: бездомным – но не одиноким.
И ускорил шаг. Хотелось скорее сказать друзьям, что он не уедет из Колы. И это не жертва с его стороны, не жертва.
Он уже подходил к ним и думал, как лучше сказать об этом, попроще и посердечней, и, конечно, не знал наперед судьбу.
Не только английский корвет дотла уничтожил Колу. По высочайшему в России соизволению древний город тоже вскоре перестанет существовать; полицейское управление переведут в Кемь, упразднят казначейство, суд, почтовую станцию.
И, лишенные помощи казны, разбредаться станут в села Поморья неприкаянные коляне.
Вот тогда и он, Шешелов, после долгих раздумий тоже решит уехать.
Но в тряске перекладных телег из Архангельска в Петербург ему постоянно будет видеться прежняя Кола, в которой он, как один из последних свидетелей, еще жил. Будет видеться с лодьями, шхунами, шняками у причалов, праздничным звоном колоколов девятнадцатиглавого собора, древней крепостью, улицами, домами.
Будут видеться и друзья его, Герасимов, благочинный и другие коляне с ними, из немногих оставшихся, что пришли проводить его и желали сердечно и скупо удачной ему дороги и счастья на новом месте.
И сколько бы Шешелов ни старался думать о будущей своей жизни в столице по дороге из Архангельска в Петербург, память снова и снова будет возвращать его к виду оставшейся за кормой Колы: до самой Соловараки раскинулось пустынное пепелище, редко лачуги жалкие и землянки на черном поле. Низкое небо, промозглый осенний ветер, а на пустынном мысу провожающие его коляне. Неподвижно стояли они у слияния двух рек, пока их не растворила даль.
И как каторжника тоска по воле, моряка в долгом плавании – по земле, постепенно и Шешелова охватит этот недуг по Коле. Придет чувством вины за поспешный отъезд, словно бросил в глуши он беспомощного товарища, одолеет раскаянием, будто сам он себя обобрал под старость и лишил того лучшего, что в нем было.
И уже почти под столицей передумает он, не доедет до следующей станции, повелит удивленному ямщику повернуть обратно.
Повелит – и вздохнет облегченно, будто сбросит груз лет, и вернется в сожженную при нем Колу. Городничий без города, он единственный будет чиновник в нем, исполняя обязанности городничего, казначея, судьи, исправника, и останется в городе до последнего своего часа, а потом и навечно уже в древней Кольской земле...
Он уже подходил к друзьям своим, издали радуясь, что вновь видит их живыми, здоровыми, и, конечно, не знал, что ходить потом часто будет на пепелище. Просто так, вдруг поднимется и пойдет, как гонимый, в снег зимы, в грязь распутицы, в пыль холодного лета, узнавая по мелким приметам места, где стояли раньше дома, были где переулки, улицы. Не раз потом памятью он еще переживет и боль сердца от выбора общей доли, и весь ад непрестанных пушечных залпов, жар огня, страх и муку нависшей смерти, и проклятье врагу, и горячую жажду, захватившую тогда всех: не пустить, не пустить англичан на берег.
Наполненный видением, будет Шешелов, словно в оцепенении, стоять подолгу на пепелище: будут в памяти полыхать пожар, рваться бомбы, грохотать пушки, будет уходить в небытие город.
Вспоминаться будут шлюпки с «Миранды», ощетинившиеся ружьями, и англичане, выскакивающие из них на берег, и тот долгий, на последнем, наверно, дыхании, миг, при котором не сдержат они отпора идущих в штыки колян, сробеют, попятятся и, гонимые страхом, заторопятся в шлюпках на свой корабль.
А из пекла горящего города, где, казалось, все впредь на века сгорело, понесется им вслед клик взбурлившегося торжества:
-— Не пусти-ли-и! Ни с чем повернули! Ни с чем!
И, быть может, все было чуть-чуть не так, как запомнилось, не с таким, может, пафосом он услышал тогда те слова, не с кликом, – но они были сказаны, рождены несгоревшим сердцем. Шешелов их сам слышал.
И будет в воспоминаниях ему казаться: клик, родившись, поднялся тогда, вслед бегущему кораблю, над заливом, Туломой, Колой, и теперь уже вечно будет славить он гордость живших при Шешелове колян – это было вправду тогда.
— Не пусти-ли-и!
Примечания
1
Варака – лесистая сопка.
2
Тайбола – волок, пространство между озерами.
3
Пахта – круча, скала. (Здесь и далее в сносках – саамские слова.)
4
Xигна – род веревки, на которой пасется олень.
5
Кувас – шалаш из жердей и оленьих шкур.
6
Шардун, или гирвас, – олень-бык.
7
Салвас – меховой полог.
8
Рова – спальный мешок из оленьих шкур.
9
Печок – оленья шуба рубахой, мехом наружу.
10
Койбеницы – оленьи рукавицы мехом наружу.
11
Тоборки – обувь из оленьих шкур.
12
Здесь и в других цитируемых документах – подлинная фамилия городничего: Шишелов.