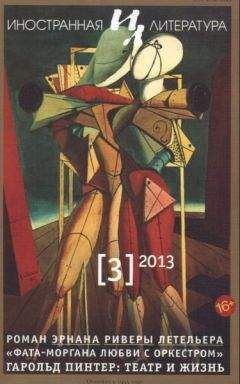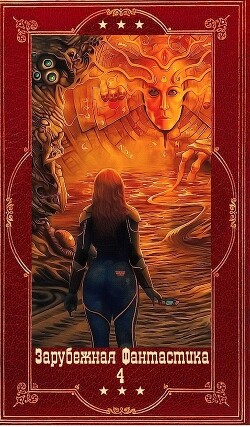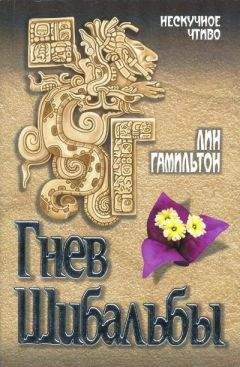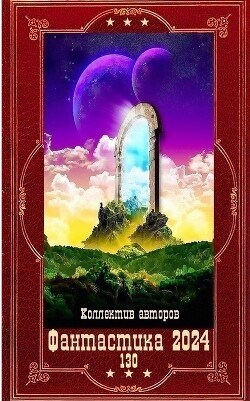Вдали (СИ) - Диас Эрнан Эрнан
Грубые простыни приятно терлись о кожу. Он задумался, проводил ли его брат эти месяцы в постели. Попытался представить расстояние до Нью-Йорка, где, знал он, его дожидается Лайнус, но смог представить эту бесконечную величину только в категориях времени — сколько несметных дней, времен года потребуется, чтобы пересечь континент. Впервые Хокан почти что обрадовался, что ему пришлось отправиться в это путешествие: после долгого странствия и всех невообразимых приключений он прибудет уже взрослым и хоть раз сможет удивить брата собственными рассказами.
Снизу донеслось позвякивание стаканов и столовых приборов, спокойные голоса трех-четырех мужчин. Хокан встал и рассмотрел свежую одежду. Всю жизнь он носил латаные-перелатаные обноски от Лайнуса, кому они достались от отца, а тому — неведомо откуда, и потому сейчас он развернул новенькие штаны и рубашку с почтением. Несмотря на крахмальную жесткость, ткань казалась мягкой и пушистой. Он приложил рубашку без воротника к носу. Такой запах он еще не встречал — его он мог назвать только «новым». Хокан оделся. Голубые штаны не доставали до лодыжек, а белые рукава кончались сантиметрах в пяти от запястий, но в остальном — сшито как на него. Этот наряд помог ему так, как еще не удалось равнинам, прочувствовать, что он в Америке.
Он приложил ладонь к окну. На стекле вибрировала выжженная пустыня. Шум внизу стал громче. Бар наполнялся. Отдельные голоса уже не выделялись в постоянном мужском рокоте, время от времени перемежавшемся хохотом или стуком кулака по столу. Солнце заходило незаметно — и не понять было, когда его последнее тусклое эхо сменилось тщетными потугами луны. Внизу, похоже, двое затеяли шутливый спор — весь салун то одобрительно восклицал, то освистывал, а закончилось все дружным смехом. Хокан вернулся в постель. Кто-то заиграл на инструменте, которого он еще не слышал: щекочущие лапки веселого жука. Завсегдатаи топали в ритм, и, не будь они мужчинами, Хокан был бы готов поклясться, что слышал шарканье крутящихся парочек. Тени в номере понемногу перемещались вместе с луной. Он задремал.
Его разбудил крик под окном. Пьяница хлестал лошадь и с каждым ударом издавал горестный вопль, словно били не кобылу, а его. Она, коротко фыркая с каждым ударом, сияла от крови и явно мучилась, но принимала побои с выставленным напоказ достоинством. Наконец пьяница рухнул в рыданиях, и друзья забрали и его, и лошадь.
Людей в баре осталось всего ничего. Говорили тихо, порывами. Возможно, играли в карты. Луна перекатилась на другую сторону единственной улицы Клэнгстона и скрылась из виду. Хокан бесшумно помочился в ведро с водой, пахнущей сосной. Четверо-пятеро мужчин ушли, их приглушенный разговор прекратился. Кто-то начал подметать, убирать стаканы. Затем кто-то закашлялся — и больше из бара не слышалось ничего. Хокан тихо сидел на постели, боясь шуршания собственной новой одежды.
Ничто не прерывало минеральную тишину пустыни. Мир в полной неподвижности казался застывшим, словно сделанным из единого сухого блока.
По лестнице поднялись чьи-то шаги, направились к комнате Хокана. Он встал — больше из вежливости, чем от страха. Дверь открылась. Он узнал двоих из отряда. Ему велели следовать за ними по коридору, на порог темной комнаты. Они впустили Хокана и тихо прикрыли за ним дверь.
Воздух наполнялся дурманящим ароматом благовоний, увядших цветов и клокочущего сахара. У окна сидела толстогубая женщина. Она повернула ручку тусклой лампы, и ее лицо и номер озарило дрожащее свечение. Она смочила глянцевые губы, медленно потерла ими друг о друга и устроилась поудобнее в своем маленьком кресле с юбкой. Она была накрашена сильнее прежнего, на скулах и груди появилось больше блесток. Янтарные волосы, оплетая гладкую шею, изливались на грудь и собирались в ажурном корсете. Все еще глядя на Хокана, она склонила голову набок — и ее левый глаз скрылся под волной волос.
Весь номер заволакивали украшения и тяжелые парчовые гардины. Куда ни глянь, всюду Хокан видел статуэтку из слоновой кости или старинную миниатюру, выцветший гобелен или еще какую вещицу. Из тьмы дрожали золотые блики и намеки на алый оттенок, размытые волнами газа и ситца. Каждое окно душили слои штор, драпировки и бахромы. Были здесь зеркала в серебряных рамах, безделушки и золоченые фолианты с латунными застежками на столиках с деревянной мозаикой и тонкими ножками, и фарфоровые фигурки, музыкальные шкатулки и бронзовые бюсты на мраморных подставках. Диптихи, камео, инкрустированные драгоценными камнями эмалевые яйца и всякая всячина на тусклом обозрении за фацетированным стеклом резных шкафов. Почетное место занимала витрина с зеленеющей саблей, пыльными эполетами, лентами с медалями, письмами с сургучовыми печатями, растрепанными аксельбантами и табакеркой с тисненой крышкой.
Женщина закрыла глаза и мягко, но серьезно кивнула, обозначая, что Хокан должен приблизиться. Он стоял перед ней, смущаясь заметной эрекции. Когда он попытался прикрыть пах, она ласково взяла его руки в свои — в кольцах, холодные, непривычные к труду. Подняла с маленького бокового столика манжеты и с мастерской аккуратностью закрепила у него на рукавах золотыми запонками с рубинами. Хокан, пунцовея, опустил глаза, делая вид, что невосприимчив к женскому касанию. Закончив, она перешла к накрахмаленному воротнику. Показала Хокану на пол, подняв подбородок. Хокан подогнул ноги. Она повторила жест. Он преклонил колени. Нахмурив лоб и поджав губы, она пристегнула воротник к рубашке. Ее руки коснулись его шеи под затылком — и он устыдился пробежавших мурашек. Робко отшатнулся, но она крепко удерживала его голову близко к своей груди, заглядывая ему за плечо. После воротника она принялась за шелковый крават. Хокан слышал ее дыхание, когда она повязывала галстук и пронзала золотой булавкой, увенчанной красным камнем. Затем мягко, но решительно оттолкнула юношу, смерила взглядом с ног до головы и сняла с вешалки для костюмов бархатный пиджак. Склонилась и медленно, церемонно надела его на Хокана, внимательно наблюдая, как его тело постепенно наполняет ткань. И вновь рукава оказались коротковаты, но грудь и плечи легли как влитые. Она касалась его рук, боков, спины, словно подтверждая для себя, что пиджак и в самом деле полон до отказа, затем выпрямилась. Хокан остался на коленях. Она пригладила его волосы и притянула к себе, обхватив затылок, показывая, чтобы он положил голову ей на живот. Его руки свисали вдоль боков. Она сделала шажок назад, не отпуская его головы, вынуждая соскользнуть ее на колени. Аромат увядших цветов, теперь проникнутый по́том, усилился. Так они сидели еще долго, слушая и чувствуя дыхание друг друга. Лицо Хокана увлажнилось от сырого жара его выдохов, запертых в ажуре и бархате. Наконец она его отпустила. В комнате холодало. Его челка прилипла ко лбу. Она взяла его за руки и кивком велела подняться. Они перешли к дивану на краю круга света от лампы, и она знаком попросила прилечь. Расстегнула ему штаны, подобрала свое платье и оседлала его. Поднималось солнце. Хокан чувствовал, будто куда-то воспаряет, в новый, одинокий край. Женщина посмотрела на него сверху вниз и, пока рассвет штриховал комнату пыльными лучами, закрыла глаза, улыбнулась и раскрыла губы, обнажая черные, поблескивающие, беззубые десны со вспученными венами гноя, и вместе со стоном излила на него свое дыхание, тяжелое от аромата горелого сахара.
По утрам, между первым светом и зарей, Хокана вели к нему в номер после встречи с женщиной. Встречи эти всегда проходили в тишине (она сообщала свои пожелания мягкими, но убедительными жестами либо лепила и направляла его тело руками) и без исключения вращались вокруг одежды: она его одевала, раздевала и одевала вновь в униформы, блузы, фраки, кушаки, бриджи, перчатки, панталоны, рейтузы и жилеты, увешивала множеством украшений. Примерки занимали большую часть времени. Она скрупулезно облачала Хокана, лично провожая каждую конечность в каждое отверстие, а затем, как в первую ночь, сжимала рукава, щупала грудь, охватывала ноги, проводила руками по спине, убеждаясь, что ткань, только что призрачно вялая, теперь отвердела от живой плоти. Затем бралась за долгую череду деталей — запонок, заколок, гетр, колец и какого-либо венчающего элемента: небольшую драгоценность, неизменно бравшуюся из стеклянной витрины с превеликой бережностью. Закончив, она отступала и изучала дело своих рук, никогда не глядя Хокану в лицо, после чего устанавливала его в какую-либо обыденную, но точную позу (обычно посреди комнаты, так, чтобы он смотрел прямо перед собой, подбородок — параллельно полу, ноги — на ширине плеч, руки — на выверенном расстоянии от бедер) и просила не двигаться долгое время, пока не давала знак опуститься на колени и положить голову ей на бедра. Так они встречали рассвет. На диван затем она его уводила не всегда, но обычно требовала так или иначе удовлетворить ее перед тем, как отпускала.