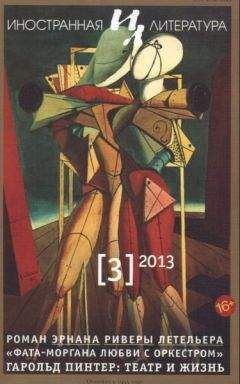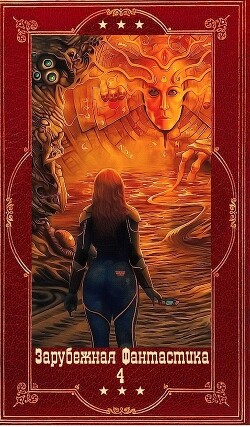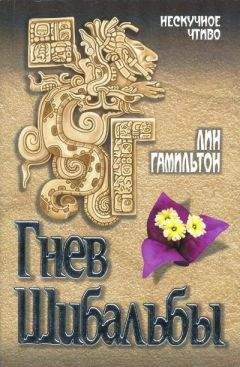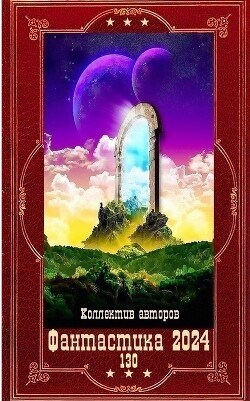Вдали (СИ) - Диас Эрнан Эрнан
В монотонной жизни год равен мигу. Сезоны проходили и возвращались, а занятия Хокана не менялись. Разлился сток. Выпала плитка. Завялить мясо, пока не испортилось. Закопать заброшенный проход. Требуется питьевая вода. Обвалилась траншея. Расшатались камни в полу. Нужно продлить старый коридор. Наварить больше клея. Крыша могла бы протекать и поменьше. Ставить западни. Сделать новый инструмент. Починить шубу. Прогнил кожаный дымоход. Собрать хворост. Не успевал он закончить одно, как уже звало другое, и так он всегда был занят делами, которые со временем образовали круг или, вернее, закономерность — невидимую для него, но, в чем он не сомневался, равномерно повторявшуюся. Из-за периодических дел один день напоминал предыдущий, а в течение дня от заката до рассвета не хватало вех, чтобы делить время. Он даже не питался регулярно. После смерти Асы ему претила пища. Поначалу, еще в пути, он видел ложку Асы — и почти акустическая сила ее присутствия выжимала из него слезы. Клочок бумаги, где Хелен написала его имя, все еще хранился в аптечке. Даже правильно, что он не может прочесть эти знаки, думал Хокан, ведь ни того, кто их вывел, ни того, к кому они относились, уже не осталось на свете. Со временем он перестал представлять лица Хелен и Асы — и они ушли еще глубже в забравшую их тьму, хоть время от времени и возвращались проблесками, которым Хокан всегда радовался. Их явления были недолгими, но такими яркими, что могли потягаться с окружающей действительностью. Порой преследовали и другие лица. Во снах на него смотрели те, кого он убил. Иной раз вокруг очков материализовывалось лицо Лоримера — сперва всегда очки, потом борода вокруг улыбки, а уже следом его добрая дикая фигура, — но это привидение не походило на отголоски мертвых, что резонируют, как настоящий звон, когда в ритме с ними вибрирует окружающее пространство и предметы. Натуралист возвращался скорее как вопрос. Хокан верил, что Лоример жив, — только не знал, где он. Время шло, эти явления происходили все спорадичнее, а теперь воспоминания и вовсе по большей части растворились в разуме. Прошлое навещало редко. Постепенно брало верх настоящее, и каждое мгновение становилось абсолютным и неделимым.
Поскольку камни, уложенные в землю, становились ровнее и суше в зависимости от того, как часто по ним ходили, первая часть норы была и самой удобной. Глина на стенах запеклась от бесчисленных костров и напоминала керамику. Здесь звуки казались маленькими твердыми предметами. Никакого эха. Жизнь существовала лишь шепотом. Все громкое приглушалось, уступало шороху брезента и скрипу кожи. Иногда волосы на руках вставали дыбом от удовольствия при стуке дерева по дереву или звяканья камня по камню. Костер слышался в мельчайших подробностях: хруст растопки, шуршание листьев, треск искр, шипение смолы, хлопки шишек, крошение поленьев, выдох углей. Когда Хокан кашлял или произносил слово вслух, голос звучал чудовищно, будто у нескладного великана, чужого в собственном доме. Какое облегчение, что неловкое бурчание немедля всасывали глиняные стены, не оставляя и следа. В подземной тиши его движения стали четче и мягче. Все требовало больше времени, в процессе возникало полное осознание каждого действия — словно расширяя настоящее, в котором он был заточен. Жестяная чашка не просто ставилась на стол, а помещалась на него с наивысшей осторожностью, чтобы продлить мгновение, когда соприкасались жесть и древесина, ради легкого ощущения чуда и впечатления мимолетной, но роковой встречи разных миров. Он не любил колоть дрова внутри, слыша в громком треске что-то непочтительное и даже безвкусное. Когда варил рагу или клей, старался размешивать, не звеня по стенкам котла. Даже, сперва того не замечая, часто почесывал бороду просто потому, что его радовал звук.
Если глиняные стены, грозя оползти, осыпаться или даже обрушиться широкой лавиной, требовали постоянного внимания (облицовка, перелицовка, укрепление, подпорка), то скатная крыша, пожалуй, требовала труда еще больше. Большей частью он крыл канавы сосновыми ветками — научившись их плести, когда они еще зеленые и гибкие, — по необходимости перемежая кожей. В результате кровля выходила достаточно плотной, чтобы полы в проходах оставались более-менее сухими, но редко действительно водонепроницаемой. В каком бы коридоре или камере Хокан ни ночевал, всегда прежде укреплял крышу вощеным брезентом и клеенкой. Еще он, связывая сучья кишками, мастерил прямоугольные рамы и растягивал на них шкуры, получая переносные ширмы, и иногда даже вешал их на петли. Ветки, ткань и кожаные панели в разных сочетаниях закреплялись на балках, врытых наискосок по обе стороны коридора и на стыке привязанных к коньку веревкой из плетеной кожи. Клей, доведенный за годы до совершенства, закрывал щели между разными частями. Постройки выходили довольно шаткие, и многие из тех редких событий, что за годы прерывали одинаковость существования, происходили именно из-за крыши. Она могла провалиться под весом дождя или снега, либо просто из-за прогнившей древесины. Однажды на него во сне рухнуло все сооружение — балки, брусья и прочее. В ногу впился большой сук. Он мог разглядеть под желтым жиром берцовую кость. Сперва рана зарастала скверно. Он опасался за ногу и подумывал о разных способах ампутации. Потом он испугался за свою жизнь. Несмотря на жар и отупляющую боль, он смог промыть и прочистить рану, зашить, перевязать и в конце концов спастись. С тех пор все постели накрывал прочный полог.
Однако через несколько лет произошло то, от чего никакой полог не спас бы. В крышу одного из боковых проходов ударила молния. Чтобы не дать пожару распространиться, он снес прилегающие части. Отрезанная прямая линия огня полыхала, пока налетевшая буря не прошла, и недолго, когда сгущались сумерки и гасло пламя, казалось, будто горизонта — два и каждый светится своим закатом.
Менее масштабным, но более трогательным был другой феномен, связанный с крышей и продлившийся какое-то время. Хокан работал в дальнем туннеле, копал глубокий подвал для дубленых шкур, требующих водонепроницаемой кровли. Закрепив на балках кожу и брезент, он спустился в яму оценить результат. К полнейшему своему недоумению, на стене он увидел изображение солнца, заходящего за лесные кроны, — причем вверх ногами. Идеальная картина мира вне норы. В ярких красках. И она двигалась. Качались деревья; пролетали птицы; солнце продолжало свой спуск — вверх. Словно чья-то чужая галлюцинация; словно кто-то далеко-далеко видел во сне это место (перевернутым) — и Хокана. Стряхнув изумление, он снял одну кожаную панель, чтобы посмотреть, не творится ли что странное снаружи. Внутрь хлынул свет, картина на стене пропала. Он выглянул из ямы. Все тот же пепельный пейзаж. Ничего из ряда вон. Он нырнул обратно и вернул панель. В подвале потемнело — и изображение вернулось. Когда он к нему наклонился, его тень выявила отверстие в коже, в которое сочился свет, превращаясь на стене в перевернутую картину. В его разуме не было места суеверию или колдовству. Как бы ни поражала картина, он знал, что это естественное явление. Только не мог постичь его причины. Картина появлялась на стене еще много дней, когда солнце начинало заходить, пропадая раньше, чем оно скрывалось полностью. Хоть он и знал этот клочок земли как свои пять пальцев, ему никогда не надоедало наблюдать слегка водянистый перевертыш на стене. И вот однажды вечером тот не появился. Хокан перепробовал все, но так и не вернул картину.
Эти события составляли для него расплывчатый календарь: до и после молнии, до и после двигающейся картины. Случались и другие происшествия, делившие монотонный быт на эпохи. Медведь, одной осенью составлявший компанию на расстоянии. Звездный дождь. Лисица ощенилась в туннеле. Времена, когда луна окрашивалась в красный. У птиц примерзали к земле ноги. Сильные грозы. Впрочем, со временем и их порядок путался. Оглядываясь назад, Хокан видел свою жизнь в лабиринте совершенно единообразным периодом. Немногие незаурядные мгновения попадали в отдельный класс, отдельный от господствовавшей в эти годы одинаковости. Времена года проходили и возвращались, а занятия Хокана не менялись. Крыша могла бы протекать и поменьше. Ставить капканы. Разлился сток. Выпала плитка. Закопать заброшенный проход. Починить шубу. Обвалилась траншея. Собрать хворост. Нужно продлить старый коридор. Требуется питьевая вода. Сделать новый инструмент. Завялить мясо, пока не испортилось. Расшатались камни в полу. Прогнил кожаный дымоход. Наварить больше клея. Не успевал он закончить одно, как уже звало другое, и так он всегда был занят делами, которые со временем образовали круг или, вернее, закономерность — невидимую для него, но, в чем он не сомневался, равномерно повторявшуюся. Из-за периодических дел один день напоминал предыдущий, а в течение дня от заката до рассвета не хватало вех, чтобы делить время. Он даже не питался регулярно. На самом деле весь рацион свелся к абсолютному минимуму для поддержания жизни. Порой его самого удивляла крепость его здоровья. У него не выпал ни один зуб — а ведь он ни разу не встречал взрослого с полным ртом зубов. Это могло объясняться только другим фактом, ставившим его в тупик не меньше: хоть он не знал, сколько ему лет, было ясно, что он достиг возраста, когда человеческий организм созревает и начинает стареть. Но он так и не перестал расти. Он уже годами не видел ни живой души, поэтому не мог соизмерить себя с другими, но знал, что будет выделяться — лишний повод жить особняком. Но все это только мимолетные мысли. Он редко задумывался о теле или условиях своей жизни — да и о чем угодно, коли на то пошло. Все время занимала работа бытия.