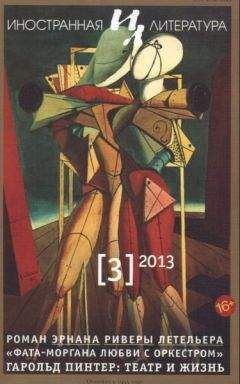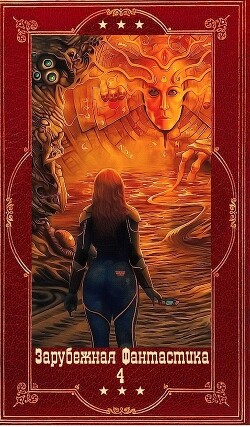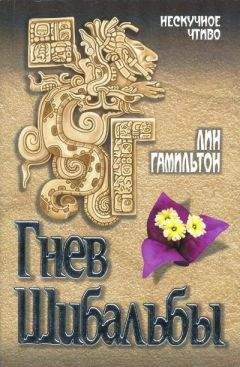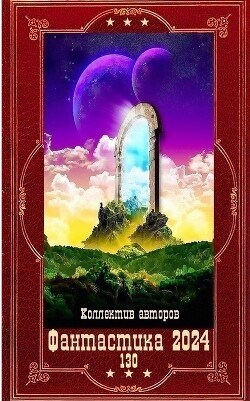Вдали (СИ) - Диас Эрнан Эрнан
Убийцы Асы забрали лошадей, и идти пришлось налегке. С помощью кожаных ремней и брезента он навьючил одеяла, провизию, оружие и инструменты себе на спину, поверх меховой шубы. Покинул cañon и направился на северо-запад, где, по словам Асы, были деревья и реки. Как и раньше, сторонился трактов и всех признаков человеческой жизни, но теперь движимый не страхом, а усталостью. Вопросы, обвинения, угрозы, вердикты. Разговоры. Хватит с него разговоров. Без определенного направления и какой-либо цели, кроме одиночества, избегать людей оказалось проще. Пешим он мог идти дикими и иначе недоступными тропами.
Он пересекал пустыни и переправлялся через реки, поднимался в горы и преодолевал равнины. Жил на рыбе и луговых собачках, спал на мхе и песке, свежевал карибу и игуан. Его лицо морщили многие лета и бороздили многие зимы. Его руки, год за годом обгоравшие и обмораживавшиеся, исполосовались линиями и складками. Однажды он завидел океан, но развернулся, решив, что вдоль побережья будут поселения. Останавливался только в нежилых местах — ни разу на лугу, у воды или в обильных угодьях, — почти не разбивал лагеря, редко жег костры. В разуме — мертвая тишина. Редко думал о чем-нибудь, чего не держал в руках. Под невесомым настоящим исчезали годы.
Через бесчисленные заморозки и оттепели он ходил кругами шире стран.
А потом остановился.
Годы походов практически босым сделали из ног что-то темное и узлистое. Мозоли, занозы и язвы меняли походку, и теперь он шел, опираясь на внешние края ступней. Колченогость повредила колени, и теперь ноги были не такими гибкими, как прежде. Даже если со временем он и научился обходиться почти ничем, на спине он всегда носил много припасов и теперь страдал от вечного нытья в хребте и шее. И все же, пусть помятый и изнуренный, остановился он не поэтому. Остановился он потому, что пришло время остановиться. Он никуда не прибыл. Просто больше не осталось шагов. И тогда он скинул поклажу и стал рыть.
Не считая податливости почвы, ничего примечательного в округе не было, за что он ее и выбрал. Пригорки вокруг уверили, что путешественники не пойдут этим курсом, когда рядом вдосталь беспрепятственных равнин. Недалеко была вода, но не так близко, чтобы ненароком столкнуться с пришедшими на водопой. Дичь, ягоды, орехи и грибы находились без труда, но и не в таком изобилии, чтобы кто-то свернул ради них. Погода не враждебная, но и заманчивой ее не назвать. Пролетали весны, переходя в знойные лета, в считаные дни выжигавшие с веток зелень. В холодное время года холмы, сорняки и немногие деревья превращались в ржавую сталь. Несколько недель в году почва была что сплошной непробиваемый камень.
Счет времени затуманили молчание и одиночество. В монотонной жизни год шел за миг. Сезоны проходили и возвращались, а занятия Хокана не менялись. Закопать заброшенный проход. Наварить больше клея. Обвалилась траншея. Нужно продлить старый коридор. Ставить капканы. Разлился сток. Выпала плитка. Требуется питьевая вода. Починить шубу. Крыша могла бы протекать и поменьше. Завялить мясо, пока не испортилось. Прогнил кожаный дымоход. Собрать хворост. Сделать новый инструмент. Расшатались камни в полу. Не успевал он закончить одно, как уже звало другое, и так он всегда был занят делами, которые со временем образовали круг или, вернее, закономерность — невидимую для него, но, в чем он не сомневался, равномерно повторявшуюся. Из-за периодических дел один день напоминал предыдущий, а в течение дня от заката до рассвета не хватало вех, чтобы делить время. Он даже не питался регулярно. На самом деле весь рацион свелся к абсолютному минимуму для поддержания жизни. После смерти Асы ему претила еда. Он наспех перекусывал — чем богата почва, сушеным мясом, чуть прожаренными на вертеле птицей или грызуном, — и то когда уже кружилась голова и необъяснимо прорывался гнев. Вокруг норы изобиловали перепелки Асы, лишний раз показывая свою насмешливую натуру. Сперва птицы злили — само их присутствие. Со временем он перестал обращать на них внимание. Ни разу не пытался их поймать. Зато ловил в капканы других животных. Опасаясь, что из-за отсутствия дичи придется удалиться от землянки, он всегда коптил мясо и сушил на солнце. Тут и там, у входов в туннели и у дальних костров, на крестах и рамках висели полосы буреющей плоти или целые туши. Сушеное мясо хранилось бережно. Но голода он никогда не испытывал — лишь головокружение и раздражение, кричавшие о скором отказе тела. Порой его самого удивляла крепость его здоровья. У него не выпал ни один зуб — а ведь он ни разу не встречал взрослого с полным ртом зубов. Это могло объясняться только другим фактом, ставившим в тупик не меньше: хоть он не знал, сколько ему лет, было ясно, что он уже достиг возраста, когда человеческий организм созревает и начинает стареть. Но он так и не перестал расти. Он заметил новый рост, когда стали жать башмаки. Их делать было трудно, а ему вечно приходились чинить старые или мастерить новые. Поскольку теперь он почти не выходил из землянки, мог обойтись, обернув ноги кожей, парусиной и мехами. Но в редкие вылазки за ручей требовалось защищать ноги, и обуви хватало всего на несколько раз, после чего ее приходилось перешивать или заменять вовсе. Свою одежду — сумбур из лоскутов и шкур — он бы никогда не перерос, но рукава меховой шубы все же приходилось несколько раз удлинять. Впрочем, лучшим мерилом служила сама землянка. Не то чтобы он вдруг не влезал в комнату или коридор — скорее отдельные места, ранее уютные, начинали угнетать и в конце концов казались такими тесными, что приходилось рыть вниз, чтобы распрямиться во весь рост, или вбок, чтобы расширить пространство. Некоторые дополнительные проходы родились из одного этого чувства замкнутости. Нечто в этом роде происходило и с его редкой мебелью. Однажды вечером колени на каменном стуле вдруг задирались слишком высоко. Однажды утром пятки вдруг упирались в изножье кровати. Он уже годами не видел ни единой живой души, поэтому не мог соизмерить себя с другими, но знал, что будет выделяться — лишний повод жить особняком. Но все это только мимолетные мысли. Он редко задумывался о теле или своих условиях — да и о чем угодно, коли на то пошло. Все время занимала работа бытия.
Давно его оставили все мысли о поиске Лайнуса, о путешествии в Нью-Йорк. Практические преграды — что его разыскивают; что его узнает любой; что у него нет ни денег, ни возможностей их добыть; что у него нет лошади, — не имели к этому отношения. Просто больше не осталось целей и направлений. Не осталось даже желания умереть, находившего на него после самых сокрушительных трагедий в жизни. Он просто был чем-то, что продолжает быть. Не потому, что хочет, а потому, что так устроен. Продолжать с самой малостью — предел наименьшего сопротивления. Это давалось естественно, а следовательно, непроизвольно. Все остальное уже требовало сознательного решения. А самым последним его решением было вырыть нору. Если теперь он продолжал ее бесконечно, то только потому, что не хватало сил на решение остановиться.
За долгие годы мимо не проходило ни души. Поначалу он высматривал всадников и даже построил небольшую платформу, чтобы было удобней держать дозор на дереве, откуда открывался вид на окрестности. Почти не разжигал костры и почти весь день слушал, не принесет ли ветер шум копыт и фургонов, смотрел, нет ли на горизонте дыма или стад. Но время шло, и становилось ясно, что его медвежий угол удален от всех маршрутов и троп и никто не придет на эту практически бесплодную серую землю с целью ее застолбить.
Мало-помалу страхи развеялись, он ушел в лабиринт и уже редко его покидал. А если и покидал, его мир не простирался дальше ручья. Он всегда ходил туда новой дорогой, чтобы не протоптать тропинку. Кроме того, он бродил по окрестностям, чтобы ставить западни и стирать любые следы своего присутствия. Но большей частью старался не вылезать из норы лишний раз. Проведя всю жизнь на природе, в пути, он полюбил сидеть внутри. Не то чтобы он боялся просторов. Скорее относился к открытым пространствам так же, как к дождю: лучше не сталкиваться. Впрочем, жизнь в землянке не означала неподвижность. Хокан весь день обходил крытые окопы, чинил плитку, копал, раздувал костры, нюхая запах смолы от сосновых потолков. Позже он думал: быть может, он, сам того не зная, выбрал такое жилище для того, чтобы и дальше оставаться на ходу, не покидая стен дома. Ночь заставала его за работой, и, хоть тело гудело от усталости, сон приходил только после долгого транса, когда он таращился в затухающее пламя, что погружалось в угли, те — в пепел, а пепел — во тьму. Его разум был пуст, но эта бездна требовала всего внимания. Пустота, выяснил он, хочет заполучить все — и достаточно доли атома (или проблеска мысли), чтобы положить конец вселенской бездне. Изнуренный вакуумом, он часто вставал, разводил новый костер где-нибудь в другом месте и трудился над мозаикой, добавляя гальку вокруг булыжников и плит в стенах. Это не особенно помогало удержать глину, зато доставляло ему некое удовольствие. Заранее продуманных узоров не было. Ему просто нравилось ставить камушки как можно ближе друг к другу, а потом отходить и смотреть, что за узор создал случай. Находить, отбирать и вставлять камни приходилось долго, а поскольку обычно хватало дел срочнее, он закончил лишь несколько мест в отдельных туннелях и главной камере.