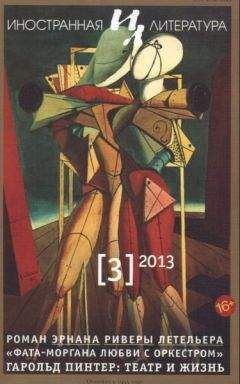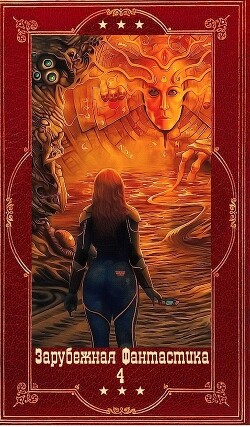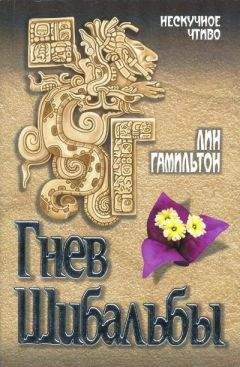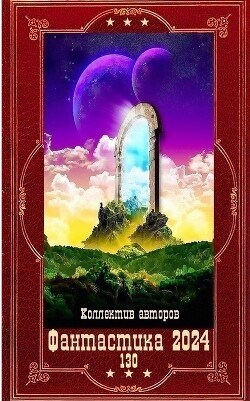Вдали (СИ) - Диас Эрнан Эрнан
Без Хокана их небольшая партия не ушла бы далеко: один осел скоро распух и издох, после чего навьючили уже паренька. Он даже смастерил себе что-то вроде ярма — из кожи, бечевки и досок, — чтобы легче было тащить тачку в гору. В ней по очереди катились дети. Несколько раз в день Джеймс останавливался, читал землю и уходил прочь один, следуя одному ему видимым знакам. Затем он ковырял камень или промывал почву, изучал результат, бормоча под нос, и жестом приказывал двигаться дальше.
Америка не произвела на Хокана большого впечатления. Наслушавшись историй Лайнуса, он уже ожидал увидеть сказочное, неземное царство. Пусть он и не знал названий деревьев, не узнавал птичьи песни и дивился красным и синим оттенкам бесплодной земли, всё здесь (растения, животные, скалы) складывалось в действительность, хоть и незнакомую, но принадлежавшую к миру возможного.
Они молча шли через нескончаемую полынь, чье однообразие время от времени прерывалось сворами псов или деловитыми пугливыми грызунами. Джеймс так ни разу и не подстрелил зайца, но редко промахивался по тетереву. Дети носились вокруг тачки и осла, выискивали блестящие камешки, отдавая их на изучение отцу. В дороге они собирали хворост для костра, возле которого Айлин по вечерам хлопотала над руками и плечами Хокана, покрытыми жуткими мозолями от рукояток и сбруи тачки, и читала семье Библию на ночь. Это был тяжелый путь, испытывавший скорее терпение, чем смелость.
Миновав лес гигантских деревьев (вот единственное, что хоть как-то сходилось с завиральными американскими описаниями Лайнуса), они встретили немногословного косматого траппера в заляпанной охотничьей шубе, а несколько дней спустя — первые лагери старателей. Они проходили скромные поселения — скопления шатких брезентовых шалашей да кривых срубов, крытых мешковиной, под охраной враждебных старателей, ни разу не пригласивших посидеть у костра или напиться воды. Те мелочи, что просила семья (еду для детей, гвоздь для тачки), шли по заоблачным ценам, а расплатиться можно было только золотом.
Хокан с трудом понимал разрозненные обрывки тех разговоров — редкие слова и в лучшем случае общие намерения. Для него английский все еще оставался оползнем слякотных, сопливых звуков, не существовавших в его родном языке: r, th, sh и какие-то исключительно студенистые гласные. Frawder thur prueless rare shur per thurst. Mirtler freckling thow. Gold freys yawder far cration. Crewl fry rackler friend thur. No shemling keal rearand for fear under shall an frick. Folger rich shermane furl hearst when pearsh thurlow larshes your morse claws. Clushes ream glown roven thurm shalter shirt. Earen railing hole shawn churl neaven warver this merle at molten rate. Clewd other joshter thuck croshing licks lurd and press rilough lard. Hinder plural shud regrout crool ashter grein. Rashen thist loger an fash remur thow rackling potion weer shust roomer gold loth an shermour fleesh. Raw war sheldens fractur shell crawls an row per sher. Поначалу Бреннаны (особенно Айлин) еще пытались растолковывать свои планы, но в конце концов махнули рукой. Хокан шел за ними без вопросов. В основном они держали на восток — а большего ему было и не нужно.
Сторонясь остальных старателей, Джеймс отказался идти тонкой тропинкой в горы. Они попытались найти свою дорогу через долины и низкие холмы, но тачка оказалась слишком неуклюжей для этих мест. Их занесло в край, где не росла трава и почти не было воды. Кожа на руках и плечах Хокана (где лежали кожаные ремни, чтобы тянуть тачку) по большей части стерлась, и обнаженное мясо, бледно-розовое, поблескивало под вязким медово-желтым лаком скорого заражения. На одном крутом спуске повязки, которые Айлин наложила ему на руки, соскользнули, шероховатые рукоятки ожгли натруженные ладони, срывая мозоли, пронзили мясо десятками заноз, вынудив его разжать пальцы. Тачка понеслась вниз с растущей скоростью — сперва катилась, затем кувыркалась и, наконец, выделывала с удивительным изяществом сальто и пируэты, пока не разбилась вдребезги о валун. Хокан лежал на камнях почти без чувств от боли, но Бреннаны не спешили ему помочь, уставившись на тропу из разбросанных по склону пожитков, завороженные катастрофой. Наконец Джеймс пришел в себя, налетел на Хокана и пинал его в живот с криком — криком бессловесным, животным завыванием. Айлин каким-то чудом уняла мужа, и он повалился на песок, рыдая и пуская слюни.
— Ты не виноват, — повторяла Айлин Хокану снова и снова, помогая ему подняться и осматривая его ладони. — Ты не виноват.
Они собрали вещи, встали на привал у ближайшего ручья и попытались заснуть у хилого костра, отложив разговор о будущем на утро.
В нескольких днях пути от них находился город, но им не хотелось уходить, бросив все вещи. Послать Хокана за помощью было нельзя, а оставлять его с женой, детьми и имуществом Джеймс отказывался. Добрый ирландец, поднявшийся на борт в Портсмуте, исчез: с тех пор как они пристали в Сан-Франциско, он потемнел от разочарований и на глазах стал злобной и недоверчивой тенью прежнего себя.
Погрузившись в раздумья, Джеймс побрел с лотком к ручью — скорее по привычке, нежели на что-то надеясь, — и рассеянно погрузил его в воду, что-то бормоча себе под нос. Подняв лоток, он не мог отвести от него глаз, словно смотрел в зеркало, но не узнавал лица. И тут — второй раз за два дня — зарыдал.
Так Хокан впервые увидел золото, и крошечные самородки разочаровали его своей невзрачностью. Кварц и даже пластинки слюды на любом обычном камне и то смотрелись интереснее этих матовых мягких крошек. Но Джеймс был уверен. Для проверки он положил бледно-желтую горошину на валун и ударил камнем. Она была мягкой и не разбивалась. Вне всяких сомнений — золото.
Пройдя от места находки к горе, Джеймс врубился киркой в оползающий склон холма у речного берега. Семья наблюдала. Через какое-то время он остановился, поплевал на камень, потер кончиками пальцев. Внезапно спав с лица и задыхаясь, он поплелся на заплетающихся ногах, как бескрылая птица, к детям, подтащил их к склону и попытался объяснить, что нашел. С закрытыми глазами он показывал на небо, на землю и, наконец, себе на сердце, и стучал по нему, твердя одну и ту же фразу. Хокан разобрал только слово «отец». Детей перепугал восторг Джеймса, а когда он схватил младшего за плечи и довел до слез пылким монологом, пришлось вступиться Айлин. Джеймс не замечал, как на него смотрит семья. Так и не прерывал свою горячую речь, обращенную к камням, равнинам и небесам.
Следующие недели во многом напоминали жизнь Хокана в Швеции. По большей части он занимался собирательством и охотой, надолго уходя с детьми, как когда-то с братом. Было ясно, что Джеймс не хочет подпускать его к прииску. Он доверял Хокану только черную, грубую работу, чтобы держать подальше от процесса добычи: откатывать валуны, лопатить землю и, наконец, прорыть канал от ручья к прииску. Сам Джеймс в одиночку вкалывал с киркой, долотом и молотком, заползал в норы и горбился над камешками, плевал на них и протирал подолом рубахи. Он копал от заката до глубокой ночи, когда его глаза пересыхали и наливались кровью от долгого труда при слабом свете двух коптилок с плоскими фитилями. Закончив на день, он пропадал во тьме — видимо, припрятывал золото, — а потом возвращался в лагерь поужинать и упасть без сил у костра.
Жилось все хуже. Джеймс, погрузившись в работу, не отвлекался, даже чтобы соорудить укрытие для семьи; Хокан попытался возвести шаткую хижину, но она годилась разве что для детских игр. Они были открыты всем ветрам, их одежда изнашивалась, а раскрасневшуюся кожу под лохмотьями покрывали волдыри. У Айлин и детей, очень белокожих, даже пошли змеиной чешуей губы, ноздри и мочки ушей. Джеймс не хотел привлекать внимания к руднику выстрелами из ружья, поэтому пополнять тающую на глазах провизию оставалось только мелкой дичью — большей частью тетеревами, такими непугаными, что, как скоро выяснилось, дети могли просто подойти и размозжить им голову дубиной. Айлин тушила птицу в густом горько-сладком соусе из какой-то разновидности черники, которую Хокан больше не видел ни разу за свои странствия. Дети целыми днями гуляли с ним, ускользая от вялых попыток матери их обучать. Джеймс, работая без перерывов и почти без перекусов, превращался в отощавшего призрака, и глаза — одновременно рассеянные и сосредоточенные, словно видели мир через грязное окно и скорее смотрели на захватанное стекло, чем сквозь него, — выпучились на его изможденном угловатом лице. В считаные дни он потерял по меньшей мере три зуба.