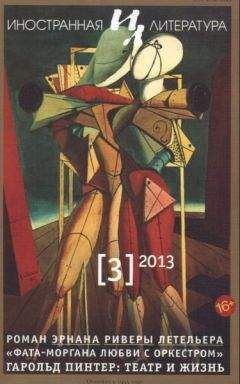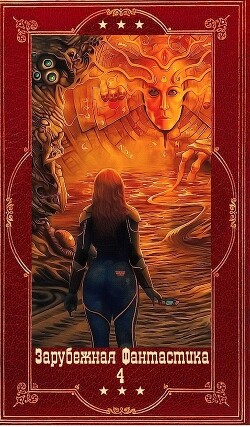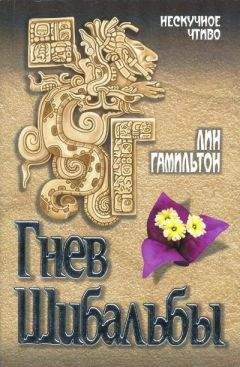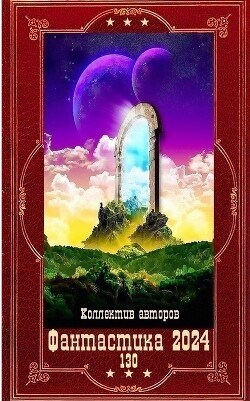Вдали (СИ) - Диас Эрнан Эрнан
На второй вечер после возвращения Хокана привели к ней. Она сидела за маленьким столиком и показала на кресло напротив. Он сел, обратив внимание на кожаную скрутку с инструментами. Как порой у нее было заведено, она аккуратно и подчеркнуто не обращала на него внимания с нетерпеливым видом, словно его присутствие — которого сама же и требовала — откладывало приход кого-то еще. Наконец, после долгого молчания, она развернула скрутку на столе. Внутри оказались отделения с ножницами, щипчиками, ножиками и прочими инструментами, которые Хокан не признал. Она постучала пальцем по столу. Хокан не понял. Она раздраженно показала, чтобы он положил руки на стол, что он и сделал. Она прижала его левое запястье к столешнице с силой, не заслуженной его покорностью, взяла самые большие ножницы и приступила к его ногтям. За время плена его руки стали мягче, но ногти оставались грубыми и угловатыми — одни росли, пока не сломаются, другие он подравнивал зубами либо ножом, выдававшимся для еды. Закончив со стрижкой, она принялась их подтачивать, затем срезала заусенцы плоским острым инструментом, при чьем виде Хокан нахмурился и машинально отдернулся. Тогда она сжала запястье крепче и ткнула инструментом в руку. Кровь не пустила, но своей суровостью дала понять, что в ответ на дальнейшее сопротивление готова пришпилить ладонь к столу. Вслед за этим покрыла ногти лаком. Вылила из одной склянки маслянистую мазь с запахом роз и втерла в его ладони. Возможно, от этой непривычной ласки Хокан и решился заговорить с ней в первый раз.
— Я должен идти, — сказал он.
Она подняла взгляд от его рук с выражением, выдавшим, что, хотя это явление из ряда вон, она не удивлена. Женщина улыбнулась.
— Я не могу, — ответила она. — Я не могу тебя отпустить.
Она погасила свет и сделала то, чего еще ни разу не делала: сама опустилась на пол и положила Хокану голову на колени, прямо как раньше просила его, затем взяла его вялую ухоженную руку и гладила себя по волосам, словно играла с тряпичной куклой.
После всех этих событий жизнь вновь пошла своим чередом. Хоть и непривычный к насилию, Хокан ломал голову над планом побега с помощью тупого ножа, выдававшегося для еды. Уверенности придавали его собственные габариты, пугавшие многих тюремщиков. Однако несколько дней спустя произошло то, что избавило Хокана от воплощения непродуманных замыслов.
Был тихий час между закрытием бара и временем, когда два охранника водили его к женщине, когда Хокан услышал, как кто-то украдкой сдвинул засов его двери. Уже эта осторожная медлительность была необычна, но еще примечательнее то, что он не слышал перед этим, как обычно, грохот двух пар сапог на лестнице. Всю ночь в Клэнгстоне свистел ветер, и теперь окна и стены тряслись и скрипели под его нарастающим натиском. Засов замедлился — очевидно, чтобы не щелкнуть в конце пути. Тишина. Хокан взял книгу — чтобы держаться хоть за что-то твердое.
Дверь открылась, а стоял за ней израненный, исцарапанный и все еще нагой толстяк. Его левая скула распухла и сомкнулась с воспаленной бровью, пряча глаз в пышно-пурпурной коже. Порезы, ожоги и синяки по всему телу, ноги изуродованы раскаленной пустыней. Он уставился на Хокана единственным глазом и улыбнулся, обнажив недавно обломанные зубы. Затем, приложив указательный палец к растресканным губам, отошел от двери и показал на лестницу.
— Иди, — шепнул он.
Хокан недоуменно уставился в ответ.
— Иди, — повторил он. — Иди живо. Иди. Быстро.
Хокан забрал ботинки, прошел мимо толстяка, чья злорадная улыбка переросла в безобразный немой смех, спустился на цыпочках по ступенькам, прошел через бар и за дверь, помешкав на пороге, и, как только ступил на равнину, побежал.
5
Рассвет был лишь догадкой, верной, но еще не воплотившейся, и Хокан бежал ему навстречу, приковав взгляд к далекой точке, которая, не сомневался он, скоро покраснеет, указав ему прямую дорогу к брату. Крепкий ветер в спину — добрый знак: ободряющая рука, толкающая вперед и при этом заметающая следы.
Если повезет, та дама не вызовет его этой ночью, его не хватятся до позднего утра, а то и полудня. Но если она его захочет, скоро охранники поднимутся к его комнате. Через некоторое время Хокан оглянулся на слабые огни города. К его удивлению, Клэнгстон пропал. И теперь, когда ветер ударил ему в лицо, Хокан понял, что тот полон песка. Сперва поле зрения свелось к ночной ауре валунов и кустарников, заметных только с одного-двух шагов, а потом не стало и того. Скоро песчаный вихрь скрыл саму ночь. Сила ветра и жалящая пыль стали новой стихией — чем-то, несмотря на свою шершавость и сухость, сродни более воде, нежели земле и воздуху. Хокану пришлось отвернуться, чтобы дышать. Он все бежал, чувствуя себя укрытым бурей, заткнувшей его уши ревом. Его лицо сжалось, как кулак, — даже позволь то ветер, открывать глаза в двойной тьме не было никакого проку. Он запинался чуть ли не через шаг, но радовался каждому падению из-за передышки от свирепого потока. И все-таки скоро он поднимался на ноги и продолжал гонку вслепую, пыхтя сквозь стиснутые губы.
Утро так и не наступило. Просто побледнела тьма.
Хокан, игрушка на ветру, уже не понимал, в каком направлении движется. Оставалось лишь надеяться, что он не заложил широкий круг обратно в Клэнгстон.
Когда буря утихла, над головой Хокана засияло полуденное солнце, раскрыв пейзаж, схожий с пустыней за его окном. Он неуверенно продолжал путь. Однако вскоре перед ним вытянулась тень, и он следил, чтобы она всегда предшествовала ему, твердо уверенный, что тень направит его на восток. После такой бури его следы не нашел бы ни один следопыт, но Хокан все еще тревожился. Далеко ли он забрался? Оставил ли Клэнгстон в прошлом? Ушел ли от тех, кто его держал в плену, или возвращается к ним? Он не сомневался, что женщина потребует вернуть его любой ценой и что она снарядила погоню, как только позволила погода. Как проводятся поиски, он не знал, но, даже если разослать преследователей во все стороны, женщине не хватит людей, чтобы прочесать равнины, думал он. Он надеялся, его путь проляжет между двумя радиусами, расходящимися от коновязей у бара. Впрочем, он гадал, сколько еще продержится без еды и воды. И повезет ли ему найти подмогу, не все ли поселения в пешей доступности от Клэнгстона находятся под влиянием женщины?
Опустилась ночь, и, не умея ориентироваться в темноте, Хокан остановился. Лег на теплый песок, между двумя кустами полыни. Пустыня, столь тихая днем, теперь бурлила от деятельности — животные ревели, сношались, ели, съедались. Хокана это не заботило. До того он видел только грызунов, рептилий и мелких псов и верил, что напугает их своими размерами. Бояться змей он еще не научился.
Проснулся он задолго до рассвета, отчасти по привычке (он всегда вставал посреди ночи в ожидании стражников), но еще и потому, что земля остыла. Ночное небо изменилось. Хокан дивился слаженному движению звезд и жалел, что не спросил брата, как эти яркие точки умеют странствовать по небесам вместе, всегда сохраняя расстояние друг между другом. Лайнус растолковывал разные чудеса природы. К примеру, что у каждого дня свое солнце. В пути по небу яркий диск выгорает, тонет и расплавляется на горизонте, стекая с края земли, как воск. И, точно свечной мастер, Бог ловит капли и за ночь лепит новое солнце. Ночь длится столько, сколько Бог трудится над новым солнцем, что он зажигает и выпускает каждое утро. Но звезды и их движение — этого Лайнус объяснить не потрудился.
Как только предпроблеск на горизонте указал путь, он двинулся на восток.
Если бы не тетерева, сгинуть бы ему за считаные дни. Он забивал дубинами и камнями пару птиц каждый день и пил их кровь. Пить от этого хотелось еще больше, но зато он не терял сил. Поначалу его рвало, стоило выдавить в рот теплый сироп, но скоро он научился подавлять рефлекс. На подбородке и одежде, изорванной в лохмотья в песчаной буре, запеклись сгустившиеся капли. Наконец Хокан заметил, что бурая твердая кровь защищает от солнца, и начал щедро размазывать ее по рукам, груди, шее и лицу. От пота слой становился текучей жижей, приходилось то и дело останавливаться и подновлять его. К тому времени Хокан уже перестал чуять безумную вонь.