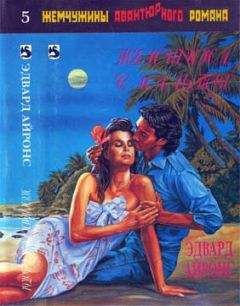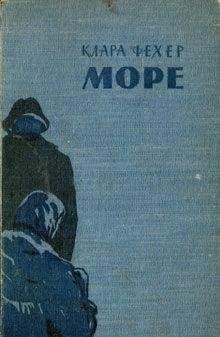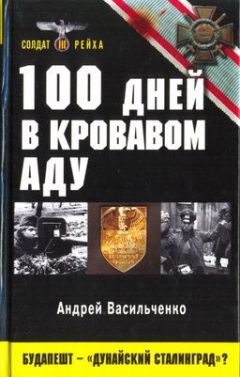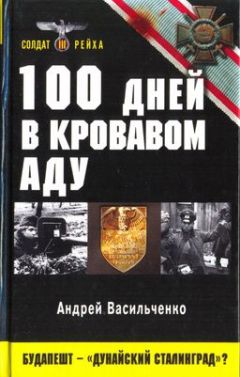Анна Чайковская - Триумф красной герани. Книга о Будапеште
Смелость заказчиков производит, пожалуй, даже большее впечатление, чем талант архитекторов: в других районах города работали не менее талантливые мастера, но подобной концентрации новаторской пластики там не наблюдается. У этой части города – определенно свой характер, и прогулка по его улицам исподтишка подготавливает путешественника к восприятию неожиданного факта: в доме, стоявшем практически на том месте, которое сейчас занимает Большая синагога на улице Дохань, родился Теодор Герцль, основоположник сионизма. Отсюда, с угла, где в Еврейском квартале встречаются улицы Дохань и Вешшелени, начинается, по сути, история современного государства Израиль.
Присутствие евреев в различных сферах общественной жизни Венгрии до Второй мировой войны зафиксировано и в облике города, и в данных статистики. В комментариях к книге венгерского историка Иштвана Бибо сказано: «При том, что доля евреев-иудеев в общей численности населения Венгрии не превышала 5,6 %, в 1930 году евреями (по вероисповеданию) были 55 % врачей, 49 % практикующих адвокатов и юристов, 30 % инженеров, 59 % банковских служащих, 46 % торговцев. Если сюда же были бы отнесены также крещеные евреи, то цифры оказались бы еще более внушительными. Не менее трети евреев имели свой бизнес»[105].
Каким же образом получилось, что евреи стали в Венгрии движущей силой прогресса? Автор объясняет, в силу каких исторических причин в Венгрии сформировались более благоприятные, чем в большинстве европейских государств, условия для продвижения евреев по ступеням социальной лестницы. Это, прежде всего, давние традиции веротерпимости в многоконфессиональном венгерском обществе (так, в Трансильванском княжестве еще в 1571 году был принят закон, уравнивавший в правах католиков, кальвинистов и лютеран; в 1782 году Иосиф II издал Указ о терпимости; в 1783 году евреям было разрешено селиться в «королевских городах»). А также этническое разнообразие земель венгерской короны, где собственно венгры составляли всего около 50 %, что влекло за собой сознательные попытки правительства увеличить долю венгерского элемента за счет ассимиляции (мадьяризации) пятипроцентного еврейского национального меньшинства, и, как следствие, последовательное снятие экономических ограничений по отношению к евреям[106].
Надо сказать, что правители-Габсбурги на вопросы веры в большинстве своем смотрели достаточно прагматично. Более того, их собственная прокатолическая позиция была в значительной мере вынужденной: поставленные перед необходимостью защищать Европу от турецкого нашествия, они не смогли бы справиться с этой задачей самостоятельно, без помощи других европейских монархий. Объединяющей же силой выступал именно Рим, католическая церковь и папа, рассчитывать на поддержку которых можно было, только сохраняя верность католической вере[107]. На протяжении веков отношения между еврейской и христианской (католической и протестантскими) общинами Буды и Пешта складывались по-разному – в зависимости от расклада политических сил и личных взглядов на приверженность вере и пределы веротерпимости, присущих тому из Габсбургов, кто в данный момент занимал венский трон[108].
Будапешт начала ХХ века, случалось, называли Юдапештом. Неологизм придуман венским бургомистром Карлом Люгером, и сейчас не столь важно, с какой интонацией произносилось это название. Важно, что венгерская столица замкнутой, мононациональной, единообразной в этническом и религиозном отношении не была ни в коем случае.
Внимательный наблюдатель за жизнью Будапешта мог бы добавить сюда и указание на сравнительную слабость здешнего религиозного чувства, низкий градус религиозности населения. В городской жизни празднование Пасхи проходит совершенно незаметно и уж точно вызывает куда меньше энтузиазма, чем день святого Иштвана. В самой базилике святого Иштвана главный объект почитания – сам первый венгерский король, а изображение Христа нужно еще найти, и даже в витражах окон, освещающих храм, – корона Иштвана, а не агнец с крестом и не символ Троицы. Венгрия за всю свою историю не дала Европе ни одного сколько-нибудь заметного религиозного деятеля, известного за пределами страны. Иезуит и просветитель, основатель Трнавского университета Петер Пазмань, националист и традиционалист Оттокар Прохазка, антифашист и антикоммунист Йожеф Миндсенти – все это фигуры, важные для страны, но несопоставимые по значению с итальянцем Франциском, испанцем Лойолой, чехом Гусом, французом Кальвином, швейцарцем Цвингли, шотландцем Ноксом, не говоря уж о немце Лютере. Понятно, что и в отношениях между венграми и евреями собственно религиозные разногласия не играли заметной роли; и катастрофу 1944 года легче объяснить конфронтацией экономической, проще говоря, завистью, чем несовпадениями взглядов по вопросам веры.
Довольно долго венгерские дворяне, пестуя обиженную национальную гордость, дела коммерции и тем более промышленности почитали ниже своего достоинства. Как писал поэт эпохи барокко, барон Орци: «Если у нас достаточно еды и вина, то чего еще нам желать? К чему венгру копить деньги?»[109].
И только тогда, когда венгерское среднепоместное дворянство осознало, что эпоха феодализма окончилась и что успех, благосостояние и власть зависят теперь от законов капиталистической экономики, а не от длины родословной и даже (это была новость!) не только от размеров земельных владений, оно увидело в евреях, вышедших на этот путь раньше, своих конкурентов, уже занявших все ключевые экономические позиции. «Пока мы проливали кровь за Отечество, они разбогатели!» До этого, фактически до политического кризиса 1905–1906 годов, в Венгрии можно было говорить о политике экономического благоприятствования по отношению к евреям.
Иными словами, экономический и культурный взлет Будапешта во второй половине XIX века и наглядный расцвет будапештской еврейской общины в то же время – явления одного порядка. Евреи, «как неофиты впитывали в себя цивилизацию XIX века, давая выход энергии, накопленной за века изоляции»[110], и за прогресс, за движение в будущее, за динамику и разнообразие жизни в пространстве Австро-Венгрии, похоже, отвечали именно они. И Габсбурги по большей части это понимали. Прочие – догадывались.
Зонт святого Петра и госпожа Розалия
Свои соображения на тему соседства мадьяр-христиан и евреев-иудеев имелись и у крестьянского населения Венгрии. В романе Кальмана Миксата «Зонт святого Петра» (1895) есть любопытнейший эпизод. Действие происходит в австро-венгерские времена в глухой провинции («где-то среди гор Шелмецбани и Бестерце»). Жители деревни, называемой Бабасек и славной уже тем, что в ней раз в году случается ярмарка, решили, что ей пора и быть и слыть – городом: «…В городе все как-то гораздо значительнее, солиднее: земля, сады и даже люди. Само слово «горожанин» уже кое-что значит. Выберут тебя, допустим, в управу – и ты уже сенатор; древний домишко с соломенной крышей, где заседают старейшины, это тебе не что-нибудь, а магистрат; «десятский», в бочкоры обутый, в городе гайдуком прозывается, и хоть нет на нем доломана путного, зато медная пряжка так и сверкает на самом брюхе. Гайдук этот в придачу ко всему должен еще уметь в барабан бить – по той простой причине, что в городишке барабан имеется; а города побогаче, те даже пожарными насосами обзаводятся. Ничего не поделаешь – положение, как говорится, обязывает»[111]. Жители же соседних деревень посмотрели на затею скептически и недоверие свое к замыслам бабасекцев выразили такими словами: «Тоже город называется! Да там ни одного еврея нет! А ведь дело известное: ежели еврей какое место обошел, жизни тому месту не видать и городом не бывать».