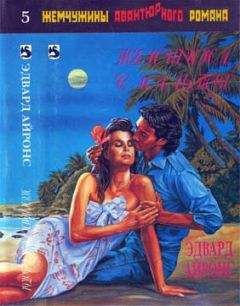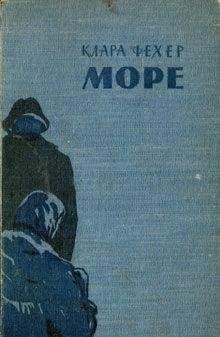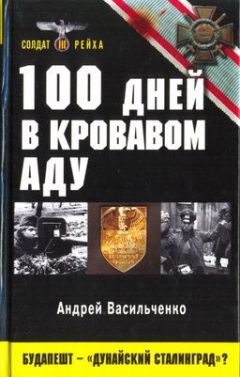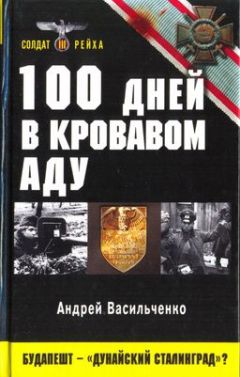Анна Чайковская - Триумф красной герани. Книга о Будапеште
С 1914 года Дунайская империя стала врагом. А с 1917-го и далее любая «заграница» начала приобретать черты «того света», и всю Австро-Венгрию, с ее венским кофе, Штраусом и Фрейдом, с пирожными, актрисами и замками Эстерхази, с бульварами и опереттой, припечатала одна фраза Швейка. На Австро-Венгерскую империю полагалось смотреть свысока, как на списанный в архив, неудавшийся исторический проект. При наличии собственного катастрофического опыта ХХ века, правда, предъявлять дуалистической монархии серьезные обвинения не получалось. Журили ее, например, за бюрократизм: «…исключительно бюрократизированное государство. Ведь кроме бюрократической машины абсолютной монархии в Австро-Венгрии было мало других, объединяющих империю факторов. Не хватало даже того, что было в Российской империи, – одного явно преобладающего по численности народа. Неудивительно, что бюрократизм Австро-Венгрии «вскормил» и Гашека, и Кафку, и Чапека. Чапек придумал слово «робот». Кафка на первое место поставил бесчеловечность бюрократической машины, состоящей из людей-функций. А Гашек выявил во всем блеске идиотизм повседневной жизни»[92].
В текстах историков по поводу Дунайской империи звучит недоумение: «Самое удивительное, что Австро-Венгрия продержалась еще больше полстолетия – по 1918 г. Ее должны были бы разорвать славяне через 10–15 лет…»[93]
В социалистические времена все страны соцлагеря, даже европейские, воспринимались массовым российским сознанием как нечто второсортное, не дотягивающее ни до остальной Европы, ни до Советского Союза. Просеянные через сито советской прессы новости стран социализма выглядели той же серой полосой (с соцсоревнованиями и первомайскими демонстрациями), но меньшего, чем в Союзе, несерьезного масштаба.
Венгрия из сознания выпадала вовсе[94] – просто на уровне непосредственного восприятия: славяне выглядели братьями по судьбе, гэдээровцы – бывшими, но перевоспитанными врагами, а куда отнести этих, говорящих на непонятной языке? «Трибуна люду» плохого не напишет, что ясно уже из названия, а чего ждать от газеты, невыговариваемо называющейся «Нэпсабадшаг»?
«Популярно объясняю для невежд: Я к болгарам уезжаю – в Будапешт»[95], – пел Высоцкий в 1970-е, а к 2015-му российская публика уже подзабыла, какая именно из социалистических стран, Венгрия, Польша или Югославия, называлась «самым веселым бараком в соцлагере», legvidámabb barakk.
Петр Вайль, чье имя незримо витает над страницами этой книги, писал, объясняя Европу как «дом с множеством помещений и пристроек»: «Две комнаты, вокруг которых построено все остальное, – Греция и Италия. Есть побольше, вроде Германии, и поменьше, вроде Дании. Есть просторные залы от моря до моря – как Франция. Зимние и летние веранды – как Англия и Испания. Чердак – Швейцария, погреб – Голландия. Стенные шкафы – Андорра или Лихтенштейн. Солярий – Монако. Забытые чуланы, вроде Албании…»[96]. Венгрия забыта настолько, что ей вовсе не находится места в этом перечне.
И до сего дня государство под названием Magyarország (Мадьярорсаг) – самая непонятная страна Европы, а эпоха Австро-Венгрии – самая непонятая страница европейской истории.
Венгерская тоска«Пессимизм – похоже, это действительно характерная черта венгерского менталитета – всегда предполагать неблагоприятные повороты судьбы».
Иштван Барт. Русским о венграх. Культурологический словарь.О проигрышах и разгромах
Из трех главных национальных праздников, два – 15 марта, день начала антиавстрийской революции 1848 года, и 23 октября, день начала восстания 1956 года, – посвящены революциям и восстаниям проигранным.
Точнее, счет великих венгерских поражений начинается с 1526 года, с битвы при Мохаче, когда Сулейман Великолепный разгромил венгерскую армию и османы заняли большую часть страны. Тогда погиб и последний национальный венгерский король, двадцатилетний Лайош II, и все его полководцы. Тело короля долго не могли найти. На картине Берталана Секея бледный и мертвый Лайош покоится на белом полотне посреди южновенгерской степи; у него небольшая бородка и аккуратно подстриженная челка; вокруг склонились в одеждах, скорее оперных, чем подлинных, его воины; сцена торжественна и печальна. В реальности все выглядело, вероятно, менее благообразно: король утонул в речке, спасаясь бегством после разгрома войска, останки Лайоша были найдены лишь через два месяца. Первая венгерская катастрофа означала разделение страны на три части, разрыв преемственности и утрату значительной части культурных завоеваний прошлого: Венгрия при Матьяше – ренессансное государство, равное среди равных; Венгрия XVIII и первой половины XIX столетий – глушь, провинция, захолустье. В Венгрии до сих пор жива поговорка: «Больше потеряно при Мохаче» (Több is veszett Mohácsnál), успокаивающе произносимая при обычных житейских неприятностях. Так частная жизнь поверяется национальной историей, причем подходящим историческим воспоминанием оказывается именно воспоминание о величайшем бедствии…
А 4 июня страна вспоминает вторую венгерскую катастрофу. За названием «День национального единства» (A nemzeti összetartozás napja) скрывается все та же, самая болезненная для страны тема – Трианон. Поминальные службы, лекции, концерты. День – официально рабочий, но трамвайный маршрут № 2 работает в укороченном режиме: на площади перед Парламентом ожидаются демонстрации, на площади Героев активисты разворачивают огромный сине-желтый секейский флаг – в память об утраченной Трансильвании.
Повышенное внимание венгров к датам разгромов и поражений производит сильное впечатление на наблюдателей. Кшиштоф Варга, автор книги «Гуляш из турула» с типично польским именем и типично венгерской фамилией[97], пишет: «На самом деле венгры больше острого, жгучего любят сладкое. А больше всего – сладкий вкус поражения. <…> Список венгерских побед короток, а значит, его легче забыть. Как может благородно страдать страна, которой случалось выигрывать? Но кто запретит плакаться над собою стране, которая всегда проигрывала? Память о том, что проигрывали всегда, помогает забыть, что не всегда Венгрия была жертвой – случалось ей бывать и палачом. Списком венгерских поражений смягчается перечень венгерских преступлений»[98].
Версия убедительная, и оспаривать ее, если что, – самим венграм. Про Венгрию в роли палача тоже найдется что вспомнить: 1914 – Талергоф, 1942 – Нови-Сад, 1942–1943 – Дон, 1944 – Холокост в Будапеште и провинциях, 1968 – Прага. Можно, однако, предложить и другую версию. Венгры празднуют проигранные революции? Дело в том, что через некоторое время после формально проигранных революций в стране наблюдается определенный расцвет и вполне ощутимое благополучие. Через два десятилетия после подавления революции 1848 года Венгрия вступает в лучшее время своей истории, что особенно заметно по столице: «С 1867 по 1914 год наблюдался максимальный подъем солнца Венгрии над политическим горизонтом. Это зенит будапештского благоденствия и благополучия: это пора реформ, возведения величественных монументов (во второй половине XIX века в Будапеште появилось 63 «полноформатных» памятника) казавшейся беззаботной жизни»[99].