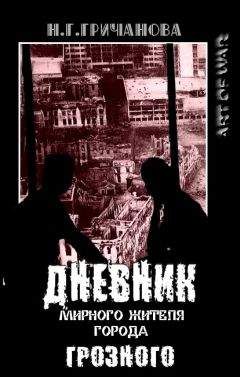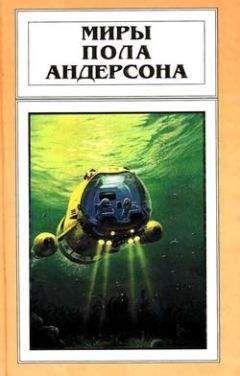Наталья Загвоздина - Дневник
Христине
Парашют одуванчика схож
с лёгкой детской головкой.
Подоспевший покос,
перелёты стрекоз,
озорная уловка
улететь одуванчиком вдаль
и собрать с мироздания дань.
Август царственный нам
не казна, не помеха.
Он пройдёт и без нас,
мы пребудем по мере.
Тень младенца светла,
голуба, разнотравна…
В длинном перечне ласк
обозначена травма…
Так лети же, лети,
одуванчика племя…
Август что желатин —
густ. Вращается лемех.
Л. Наумовой
Август! Дай скорее ручку.
Мы пойдём с тобой дорогой.
День за днём тебя научат.
Остановишься дородным.
Жизнь! Возьми меня за плечи.
Поведи путём печальным
даже в радости. Полегче
запечатывай печатью…
Время! Через жизнь и мимо,
через августа усладу
проходи… Но жизни мига
не выплёскивай в осадок.
Зреют яблоки, и Ева
смотрит в плода сердцевину.
Бытие. Начало. Слева —
вся печаль. За взглядом следом.
Дождь и грусть. И Громовержец
Илия. Непроходима
темень ночи. Кроме веры
разве нужно что в годину
испытания на стойкость?
Воздух августа настоян
на конечности… Настолько,
чтоб грустить, но не исчезнуть,
препоясать крепко чресла
и смотреть в потёмки честно.
…Но подняться над кручиной
и повесить на крючки, на
старый гвоздь пальто с чужого
позабытого плеча…
Налегке вспорхнуть на ветку,
чуть качаемую ветром,
и запеть про жизнь, с ожогом,
но не в клетке палача.
Утро мрачно. Не смыта дождём
ночь тревожная – на день надежда.
Мы её под дождём подождём,
не смыкая тяжёлые вежды.
Глядь, и ясно, промчалась гроза.
Отдохнём и надышимся вдоволь…
День что розан (хотелось – розан),
но зачем этот термин «садовый»…
Жизнь не терпит подмены, по ней —
только слово – залог и порука.
Мы его не забудем поне …[4]
И ненужное саду – порубим.
Утро светло, коль просто в очах.
Пелену, как саднящую линзу —
с роговицы (уж лучше в очках)…
Знать, не станет болеть по ночам.
Покидать нешто шапки? Умерь
летний пыл… У цветочной корзинки
помолчи и послушай пчелу.
Может быть, сам поймёшь, почему
есть сочувствие, нет укоризны,
когда день, вполовину, померк…
Но я вижу лишь жала испуг…
Этот яд – дорогое лекарство.
И его не заменишь халвой
(так питается жалкий холоп,
но не царь, пожелавший на царство).
Ты не бойся, я жало – изму [5].
Ю.
Как сон преодолей и страх, и послевкусье.
Поставь себя вперёд и выведи на свет.
Нет в тёмной стороне ни кузнеца, ни кузниц —
один и сам. Покинь насиженный насест.
Один и сам – смелей, узнать добро и волю.
А тот, что тать в ночи, рассеется как дым.
Где Добрый Пастырь, там добычи нет у волка,
схватившего во сне однажды за кадык…
Вернуться в сад под куст смородины, малины,
губами тронуть плоть, не глядя дальше двух
названий (…всех цветов, пересеченья линий,
безмолвных тварей, птиц и облаков)… Недлинный
подъём на небо… И, не оставляя дух, —
вернуться в сад.
Година что один обычный миг. Донское
сообщество. Сквозь плоть непаханой земли
доносится «аминь» с кадильною тоскою
торжественно… Стезю «легенды» замели…
О том, что… так и так… Напрасное усердье.
Он там без вас в Дому, не ведомом толпе.
И знает Бог Один, что каждому у сердца
положено до сна-успения… Допеть
успел ли наш герой… В Донском под небо липы.
Торжественно и так, со всем наедине.
Не страшно и светло, под сердцем не болит и
«не нужно заходить в пристанище теней».
На Сретенке под дождь и шум кофейных мельниц
на гуще или без гадаем о простом,
торопимся слегка и потихоньку медлим,
и мерно шелестит кофейный порошок.
Так сыплется сухой шуршащий снег на крышу
мансарды, где зимой как в лоне глубоко.
Где он прошелестит, и улетит на крыльях,
и после упадёт на землю – «упокой…».
Забудем о зиме хотя б до первых «мушек»,
пророчащих – «уже…», на Сретенке тепло.
Почти как в детстве, но тревожнее и уже,
переча сосчитать, насколько утекло
из памяти… Теперь сидеть бы до упора
за чашкой… За стеклом – театр, то бишь мир,
с каким не по пути: не вместе, не поспорить…
А он «идёт на бис», как давешний «кумир»…
И всё-таки под дождь смотрю влюблённым взглядом
на сущее. На дне загадочный мотив…
Быль видится впотьмах непостижимым кладом
под шелест ветерка застенчивых молитв.
Почему не в деревне, не там
на неровной дорожке?
Будто слишком душа занята?!
Будто вожжи возница не дал
иль поломаны дрожки…
Зарастёт подорожником путь,
не найду и приметы.
Птицы вьют свои гнёздышки пусть,
не застанут их в зарослях пуль
роковые пометы.
Город тоже обижен судьбой.
Я б, дорожка, пошла за тобой,
но не выберусь что-то.
Я готова и выше взлететь.
Ты тогда меня, небо, взлелей,
но не выпусти «в штопор».
Когда ты спишь, я бодрствую. И нам
не встретиться, как ни гони коня.
Растворена бесцветная вина
везде, где мы… И даже не понять
и не спросить друг с друга… Но с себя.
Большая жизнь и малые дела.
Смотрю в окно и вижу, что сентябрь
не выношенный осень родила,
как будто… Просыпается печаль…
по лету, безмятежности часов
полдневных… Кубок осени почат
досрочно. Но «кувуклии» печать
не вскрыта и противится засов.
…Но ведь ещё и астры напоказ
раскинутся. Взлохмаченный убор
их люб. На то и август не погас.
И автору печальному укор.
На выбор цвет. Возьми себе на стол,
оставь в саду, ушедшими под снег…
Успенским Богородичным постом
укрась иль убери Её во Сне.
Ночная Гефсимания с огнём
Кувуклии. Печать уже снята.
Успенское Вместилище – окно.
И зеркало. Где наша жизнь – не та.
Всё диковинней жизнь.
Сколько в сети ни бейся,
лишь ровнее нажим,
голубое небесней.
Под крылом голубым
разнопёрого свода
золотые клубы
среднерусской свободы.
На смоленском крыле
подмосковного тракта
разгляжу параллель —
отголоски атаки…
Бородинский форпост.
Встреча осени с летом.
Жизнь и смерть, и вопрос
за побоищем следом:
«Где потомки твои?!»
Здесь, в Подушкином поле,
как у жизни в подоле.
Небеса – на двоих.
Из Полушкина вплавь
по полям, по опушкам —
житие, а не план,
плану мера – полушка.
План у мира в цене.
Жизнь красна и бесценна.
Чем живое целей,
неживое – бесцельней.
В Бородинской земле
не свободно, не тесно.
День к закату сомлел,
затевается тесто —
завтра быть просфоре
к поминальной обедне.
Помолись о своей
Богу душеньке бедной.
За Полушкином мир,
где нам жить до упора,
помня прошлого миг,
что лежит без укора…
Где грустно так, что руки вдоль колен,
глаз вперился в соцветья красных фуксий,
а в августа садов обильный плен
добавлен, хоть и яблочный, но уксус,
грущу, как странник… Где-то есть очаг,
согретый дом, надёжные ворота…
В саду, где он останется на час,
плод с дерева немного уворован…
Праматерь Ева, первая жена,
как ты скора на жест, Адам лукавен,
и грусти, как отборного пшена,
насыпали до краешка, алкая…
Алкая – вон, и за город, и в сад…
В себя саму вернуться нету мочи.
Есть Божье чудо, но не чудеса —
не спутай на вместилище замочек.
Грусти опять, но помни об ином,
где всяк в дому и каждый угол красен.
Где уксус обращается вином
и яблока глоточек не украден.
Осенней лаской словно на воздух поставлен день.
8 ковчеге горожане как Ноево сообщество. Ещё
до холодов – столетие… И тени
длинны, как в детстве… Солнцем навощён
упавший лист, поплывший вместе с нами
рекой бессонницы, медлительными снами…
Чужая душа – потёмки.