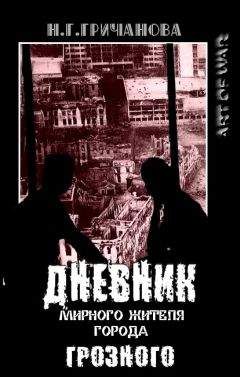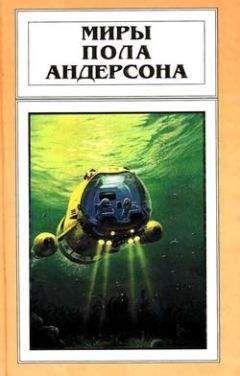Наталья Загвоздина - Дневник
P.
На пригорке клубника. Внизу
заводь тёплая. Солнце в зените.
Коромысло – то бишь стрекозу
провожу восвояси… Звоните,
голубые и медные, вслух,
колокольчики и великаны!
Подавайте на жизнь ремеслу,
чтобы в заводи топкой не канул
человеческий голос… Эскиз…
Впечатление… Вечные дали —
купола, монастырь и мазки,
там и тут, незабвенных Италии…
Отзываюсь! Молчанье не смерть.
Самого красноречия шире.
Лишь попробуй вниманье отмерь,
не захочешь тогда «дебоширить»:
«Почему ты молчишь?!» Я как тот,
что ночное дыхание слышит
и ему отвечает… Актёр —
тоже может, но «чуточку слишком»…
Покраснели костяшки – стучусь.
Достучаться теряю надежду.
Добавляю к терпению чувств —
адресат не меняет одежду.
Жмёт костюм, не по росту, не по
дару, данному даром, к ответу.
Надеваешь, как будто слепой,
получив у слепого совета.
Под одеждой помято крыло.
Скинь ненужное! Отчая воля
и твоя, милый друг… Ну, рывок!
И одна начертанная доля.
Словно в «классики» играя,
перепрыгнешь со странички
на другую, но до края
далеко… А здесь – ранимы.
Только девочка из детства
ничего о том не знала…
Никуда теперь не деться
от теснящего низанья…
…Но заглядывает лето
между звеньями цепочки,
и уложены валетом
на лугу в снопах цветочки…
Пижма с норовом крестьянским
поперёк встаёт дороги.
Даль с надгробными крестами
день за днём душе дороже.
Грубоватой желтизной
пижма меряет просёлки.
Больно на сердце тесно,
будто колется, спросонья…
Эту «барышню» сложу
не в один букет, по крынкам,
поохватистей ссужу
ей посудину… Под крышей
распластаю, да на гвоздь
подниму повыше лапкой…
Будет высохшая гроздь
защищать хозяйство ладно.
А что колко – прогоню
прочь норовистой охапкой…
Летом встанет, на корню,
поросль душноватой хаткой…
Где Керчь-Пантикапей выстраивает в рост
малиновые мальвы
и ягоды летят прицельно в детский рот
шелковицы, но – мало,
где антикой сквозит в четыре стороны,
а амфора – игрушка,
и солнце высоко зима не сторожит
свободное, но – грустно,
остался лишь испуг, задавленный волной,
солёная водица,
и жажда, и – ещё, не смытая водой…
Но тянет воротиться…
А тут на каждый сад по мальве, соль в глазах…
И грустно, и – не много.
И надо замолчать, но хочется сказать
оставшееся… Можно?
Памяти 1910-х
Подберёшься ли к Крыму пешком,
генуэзской дорогой…
Нагуляет ли ветер с песком
золотые пороги…
Полно… Галькой да камешком
для – посмотри! – перстенёчка
встретит берег… Сотри
целый век, легендарная ночка!
Эти дитятки (чьи?),
накануне великих историй,
в коктебельской ночи
пьют блаженного Крыма истому…
Всем потом по серьгам,
по суме, по кресту, по погосту,
где ручного зверька
похоронены белые кости.
Легче сна тамариск,
бескорыстны и жертвенны корни,
чей погост – от марин,
голубых, до окраины Горней.
Памяти С. В. Ямщикова
1Не возницей – еси скакуном,
тяглой лошадью, верной кобылкой
был Отечеству. В нём – каково
старым меринам, жаждущим пылко
правосудья, как с неба суда?
Свято место осталося пусто.
Отлетел тяглый ангел. Удар
по земле, где плотнеет капуста
к поминанию… Псковский мотив…
Сорок дней. Дорогая могила.
И вопросы (но втайне) – уйти
на ходу, как Возница, могли бы?
Родимой стороной, с клюкой и совестью,
по полю бороной, по жизни – повестью.
Не столько ямщиком, лошадкой тяглою,
с чем было под щекой, умытый талою
водою, что найдётся рядышком…
А то и – напоили б ядышком…
За правду, за неё, как водится…
Спи, Голубь, под Покровом Богородицы.
Плотнее повязка часов.
Растут, что у дерева, кольца.
Уже расшатался засов.
Весенний цветочек засох
изрядно, и намертво колет…
То время, не ведая нас,
течёт непрерывным потоком.
И мера ему не дана.
И наши тугие тома —
короткая летопись только.
Наполним надеждой Живот,
что эти недужные знаки —
не вымысел горький, где накипь
одна… И оденем в киот
горячую веру и труд…
Как Ной упокоимся тут.
Торопецкие дебри, озёрную гладь
и дремучего леса обильную кладь —
всё собрать, подчистую.
Долго холить, раскладывать – вот бы ещё!
Укрывать в непогоду дорожным плащом,
заворачивать в стужу.
Но пока проплывает лилейный бутон,
Божий день погружён в глухомани затон —
что за дело до «завтра»?
Плыть бы рядом да только глядеть, не дыша,
отзовётся ль его неземная душа,
без земного азарта…
В торопецкой глуши колокольчик с кулак,
от прозрачной слезинки блестяща скула
и окрашены губы
синей ягодой – всё бы бросать в молоко…
И казаться себе до конца молодцом…
Не коситься на убыль…
…Пробраться, как к кладу, сокровищу и
Метерлинковой птице…
Выталкивать, в родах, слова-вещуны
на простынь страницы.
Но всё-таки слишком не грезить о ней,
таинственно-синей…
Для синего здесь, на земле, сети нет,
есть верное сито.
свободная воля и выбор до дна
последнего часа.
Судьба материнства, какая дана
поэту отчасти…
Вспоминаю Марину, крестясь
на родное подворье.
Высоко распрямляется стяг —
не земное потворство
нам, привязанным тут, как скотинка к еде,
то к столу, то к ограде…
В световом окоёме, Морская, ты где?
Отзовись Бога ради!
Под серебряное древо,
под сиреневое небо
приходи, постой.
Под отеческие требы,
под недружескую небыль
и платок простой.
В том платке спасаться проще,
исходив земные Прощи
на родной земле.
Не высказываюсь против
райских кущ и райской рощи
в неземном селе.
Но зову – приди под тополь,
где тяжёл разгула топот
вереницу лет.
Постоим, Марина, рядом.
Мы тебе, без бронзы, рады
и целуем след.
Накормлю тебя, дружочек,
прикорну на твой лужочек,
сосчитаю пчёл.
Будет каждая с нектаром.
Запишу, что жизнь – не даром.
Только б ты прочёл.
Научу тебя по буквам
и, хотя умеешь, будто —
вдруг увидишь мир.
Ты увидишь свод в алмазах
и лицо откроешь… Маску
потеряешь вмиг.
Накормлю тебя, дружочек,
прикорну на твой лужочек —
будешь сердцу мил.
Месяц-ящерица. Хвост
мне оставивший в ладони.
Для неё благая хворь —
избавление, а то не
оставляла б… Серафим
из июля входит в август.
Ночь, с усердьем сироты,
раздаёт вселенной влагу.
Христине
Парашют одуванчика схож
с лёгкой детской головкой.
Подоспевший покос,
перелёты стрекоз,
озорная уловка
улететь одуванчиком вдаль
и собрать с мироздания дань.
Август царственный нам
не казна, не помеха.
Он пройдёт и без нас,
мы пребудем по мере.
Тень младенца светла,
голуба, разнотравна…
В длинном перечне ласк
обозначена травма…
Так лети же, лети,
одуванчика племя…
Август что желатин —
густ. Вращается лемех.
Л. Наумовой
Август! Дай скорее ручку.
Мы пойдём с тобой дорогой.
День за днём тебя научат.
Остановишься дородным.
Жизнь! Возьми меня за плечи.
Поведи путём печальным
даже в радости. Полегче
запечатывай печатью…
Время! Через жизнь и мимо,
через августа усладу
проходи… Но жизни мига
не выплёскивай в осадок.
Зреют яблоки, и Ева
смотрит в плода сердцевину.
Бытие. Начало. Слева —
вся печаль. За взглядом следом.
Дождь и грусть. И Громовержец
Илия. Непроходима
темень ночи. Кроме веры
разве нужно что в годину
испытания на стойкость?
Воздух августа настоян
на конечности… Настолько,
чтоб грустить, но не исчезнуть,
препоясать крепко чресла
и смотреть в потёмки честно.
…Но подняться над кручиной
и повесить на крючки, на
старый гвоздь пальто с чужого
позабытого плеча…
Налегке вспорхнуть на ветку,
чуть качаемую ветром,
и запеть про жизнь, с ожогом,
но не в клетке палача.
Утро мрачно. Не смыта дождём
ночь тревожная – на день надежда.
Мы её под дождём подождём,
не смыкая тяжёлые вежды.
Глядь, и ясно, промчалась гроза.
Отдохнём и надышимся вдоволь…
День что розан (хотелось – розан),
но зачем этот термин «садовый»…
Жизнь не терпит подмены, по ней —
только слово – залог и порука.
Мы его не забудем поне …[4]
И ненужное саду – порубим.
Утро светло, коль просто в очах.
Пелену, как саднящую линзу —
с роговицы (уж лучше в очках)…
Знать, не станет болеть по ночам.
Покидать нешто шапки? Умерь
летний пыл… У цветочной корзинки
помолчи и послушай пчелу.
Может быть, сам поймёшь, почему
есть сочувствие, нет укоризны,
когда день, вполовину, померк…
Но я вижу лишь жала испуг…
Этот яд – дорогое лекарство.
И его не заменишь халвой
(так питается жалкий холоп,
но не царь, пожелавший на царство).
Ты не бойся, я жало – изму [5].
Ю.