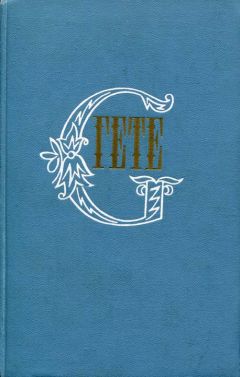Новелла Матвеева - Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи
Стихотерапия
IКогда сердце,
С себя сбивая
Скорлупу, одну за другою,
В гадость памяти обрываясь,
Мчится воющими пропастями,
Ты представь себе
Своё горе
Нарисованным… на фарфоре.
Да и то не всё, а частями.
Но… круги и зигзаги ада
На фарфор наносить не надо:
Ведь фарфор и фаянс так ломки! —
Против жанра идти не стоит…
Да и кто ты такой, отучая
Человека от чашки чая?
Если жизнь ты ему отравишь,
Разве это тебя устроит?
Только маленькие промашки,
Улыбаясь, рисуй на чашке:
Слишком сильное заблужденье
Нипочем под глазурь не ляжет!
Выбирай картинки былого
Наименее всё же злого…
(Сердце, рвущееся на части,
Вкус и меру тебе подскажет.)
Как люблю я фарфор с фаянсом!
С нанесённым на них Провансом,
С их Аркадией…
Как природа их белопенна!
Постараюсь, чтобы страданье
Соскользнуло с них постепенно
(С целой тучей забот, которым
Повседневность — не оправданье).
Есть резон моему пристрастью:
Даже бьётся посуда — к счастью!
(Хороша и та, что не бьётся:
Уж зато цела остаётся!)
Есть резон моему пристрастью
И гончарному упоенью:
Если бьётся посуда к счастью,
То не бьётся — к успокоенью.
И откроется очень скоро
При расписыванье фарфора,
Что грешно малевать кошмары
На батисте из рода глины;
Гадость памяти, сил крушенье,
Оскорбленье и поношенье…
В этом случае допустимы
Только розы и мандолины.
Как мой вкус изыскан, однако!
А изысканность — грех великий:
Слишком тонкое — снова грубо.
(Я эстетов кляну, каналий!)
Но поскольку речь о посуде, —
Прикладном, а не главном чуде, —
Отчего не ценить фарфора?
Табакерок, резьбы, эмалей?
Над боярышником фаянса
Тени ночи летать боятся;
Никогда мадам Косарица
На фарфоре не воцарится!
Я по свету хожу; я всюду
Разрисовываю посуду,
Чтобы хор ее нежноголосый
Пел анафему ведьме безносой!
И пускай Зоил образцовый,
Принимаясь за пашквиль новый,
Как всегда не подумав, скажет
(Ведь Зоил человек простецкий!),
Что в расписыванье фарфора —
Ни судьбы, ни с судьбою спора,
Ни отчаянья, ни задора
И ни удали молодецкой.
И пускай питомец зоилов
Носит громы на лирных вилах,
Бурю (якобы) в поле ловит,
Рвёт, рыча, на груди рубаху, —
Вот кто пляшет среди фарфора!
Ан заденет его — не скоро:
Порешить свою обстановку —
Не достанет ему размаху.
Вообще же… Взращённому в холе
Скакуну — как не рваться в поле?
Но скакун, испытавший сечу,
Зря не прыгнет ветрам навстречу.
Это бюргеру льстит ужасный
Ураган в байроническом роде.
Но бродяга
Плохой погоде
Не споёт серенады страстной.
Ах, фарфор на старом камине!
Уж не бюргерский ты отныне,
Так как бюргеры переменились:
Практикуются на ураганах…
Но поскольку у них такие
Поразительные стихии,
Что не только не бьют фарфора,
А тем пуще оберегают, —
То… дозволено мне да будет
Расписать эти несколько блюдец
Сценками
Из моей пасторальной
Жизни — долины взгляда…
И пока филистеры с жиру
Множат скорбь, грозящую миру, —
Вы уж дайте мне улыбнуться!
В память
О последнем обрыве ада.
Моё отношение
Навстречу мне — не помню, сколько раз, —
Вы подымали пару мрачных глаз,
Тяжелых и увесистых, как гири.
(В каком-то смысле вы штангистом были!)
Вы подымали «каверзный» вопрос:
Как отношусь я к нациям?
Всерьёз.
Ревниво и неравнодушно смалу
Я отношусь к Интернационалу.
Быть может, дело в том, что прадед мой
Был фельдшер корабельный, врач морской?
Он переслал мне в гибком кругозоре
Всеврачеванья мысль и образ моря.
И парусник прадедовских времён
В глазу моем с тех пор отображён.
Он подбирает почту. Но и тоже
Всех тонущих. Любого цвета кожи.
Я всех приветствую наперебой,
Кто мне не предназначил быть рабой.
Но тем, кто надо мной желает власти,
Я говорю не «здравствуйте», а «здрасте».
Когда я вижу: кто-то плут и псих,
Я не спешу обидеть малых сих.
(Гм… Дюжих малых сих… Сих дюжих малых —
Прожжённых бестий и пройдох бывалых!)
Кто я, чтобы сурово их судить?
Я та, в чьем арсенале могут быть
(Уж я не говорю про недостатки!)
Пороков неосознанных десятки.
Но и мое терпенье не гранит!
Мне жизнелюбство пошляков — претит.
И с пылом протестантов убежденных
Я не терплю
Повелевать рождённых!
Как?! Вечно пальму первенства искать,
А дивной пальмы равенства — не знать?!
Не понимать речения блаженства
С старинным ударением: «Равенство»?!
По счастью, тем, кто трудится, плевать
На всех «родившихся повелевать»;
Там, где они приказывать родятся,
Не всяк родился им повиноваться.
И… путается их прожектов нить…
Как с миром быть? Пригреть или спалить?
Они ещё и сами не решили,
Ан вознестись над нами поспешили!
Хоть не созрел ещё для взлётов тот,
Кто злобствует, ворует или лжёт;
Смешно, когда из-под небесной тоги
Обычные выглядывают ноги!
Людская серость, впрочем, всех лютей
Престолов жаждет. Скипетр снится ей,
Гром, крылья, цепи, кровь, попранье братьев…
(Всё то, чего нельзя желать, не спятив!)
Людская серость, впрочем, всех лютей
Стремится спятить. Допинг нужен ей.
И факелам тем пуще дурни рады,
Чем суше в зной пороховые склады.
Таким — великовозрастным — нельзя
«Детишкам» спички доверять! Не зря
Их жёстких глаз прожилки кровяные
Перетекают в зарева сплошные!
И — «мальчики кровавые в глазах».
Но то, что Годунову было — страх,
Отчаянье, раскаянье, прозренье, —
Для них… источник удовлетворенья.
Чего Борис себе простить не смог,
Для них — тренаж! Гимнастика навпрок.
Что прошлым для него ужасным стало, —
Того им и для будущего мало!
Им жалость непонятна. Трус и смерд
В их представленье тот, кто милосерд!
И вы согласны, чтоб вандалы эти
Людьми считались первыми на свете?!
Кто сам себя избрал — не суть мудрён,
Хоть и ловкач! Расизмы всех времён
С бордюрчиком романтики по краю
Я «бабьим экстремизмом» называю.
Зачем за бесноватеньких душой
Вступаться вам? Эх, на крови чужой
Цветёт «прекрасный юноша», Нарцисс-то!..
…Что с вами?
Я обидела нациста?
Но зверских кланов гнусному отцу,
Нацизму оскорблённость не к лицу,
Потерпит! Но скажите, разве было,
Чтоб я национальность оскорбила?
Когда же я смолкаю, всё сказав, —
Зачем у собеседника в глазах…
Нет, не протест, не вызов, не обида:
Нож и огонь! Гроза и Немезида!
Зачем — в конце столь, в общем, здравых слов —
Он… Ба! Да он убить меня готов!
В припадке яростного, как пиранья,
«Национального самосознанья»?!
Тёмные стороны блеска