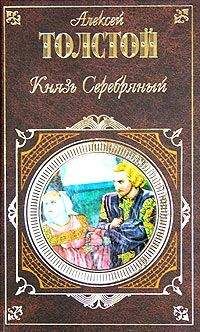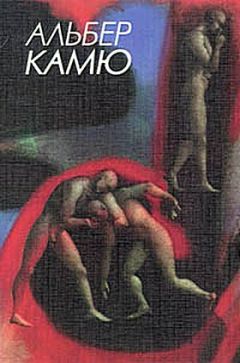Евгений Евтушенко - Окно выходит в белые деревья...
«Пахла станция Зима молоком и кедрами…»
Пахла станция Зима
молоком и кедрами.
Эшелонам
пастухи
с лугов махали кепками.
Шли вагоны к фронту
зачехленно,
громыхающе…
Сколько было грозных,
молчаливых верениц!
Я был в испанке синенькой,
кисточкой махающей.
С пленкою коричневой
носил я варенец.
Совал я в чью-то руку
с бледно-зеленым якорем
у горсада с клумбы
сорванный бутон
или же протягивал,
полный синей ягоды,
из консервных банок
спаянный бидон.
Солдаты
желтым сахаром
меня баловали.
Парень с зубом золотым
играл на балалайке.
Пел:
«Прощай, Сибирюшка, —
сладкий чернозем!»
Говорил:
«Садись, пацан,
к фронту подвезем!»
На фуражках звездочки,
милые,
алые…
Уходила армия,
уходила армия!
Мама подбегала,
уводила за фикусы.
Мама говорила:
«Что это за фокусы!
Куда ты собираешься?
Что ты все волнуешься?»
И предупреждала:
«Еще навоюешься!..»
За рекой Окою
ухали филины.
Про войну гражданскую
мы смотрели фильмы.
О, как я фильмы обожал —
про Щорса,
про Максима,
и был марксистом, видимо,
хотя не знал марксизма.
Я писал роман тогда,
и роман порядочный,
а на станции Зима
голод был тетрадочный.
И на уроках в дело шли,
когда бывал диктант,
«Врачебная косметика»,
Мордовцев
и Декарт.
А я был мал, но был удал,
и в этом взявши первенство,
я между строчек исписал
двухтомник Маркса — Энгельса.
Ночью,
светом обданные,
ставни дребезжали —
это эшелоны
мимо проезжали.
И писал я нечто,
еще не оцененное,
длинное,
военное,
революционное…
«Лифтерше Маше под сорок…»
Лифтерше Маше под сорок.
Грызет она грустно подсолнух,
и столько в ней детской забитости
и женской кричащей забытости!
Она подружилась с Тонечкой,
белесой девочкой тощенькой,
отцом-забулдыгой замученной,
до бледности в школе заученной.
Заметил я —
робко, по-детски
поют они вместе в подъезде.
Вот слышу —
запела Тонечка.
Поет она тоненько-тоненько.
Протяжно и чисто выводит…
Ах, как у ней это выходит!
И ей подпевает Маша,
обняв ее,
будто бы мама.
Страдая поют и блаженствуя,
две грусти —
ребячья и женская.
Ах, пойте же,
пойте подольше,
еще погрустнее,
потоньше.
Пойте,
пока не устанете…
Вы никогда не узнаете,
что я,
благодарный случаю,
пение ваше слушаю,
рукою щеку подпираю
и молча вам подпеваю.
«Как я мучаюсь — о, Боже!..»
Как я мучаюсь — о, Боже! —
не желаю и врагу.
Не могу уже я больше —
меньше тоже не могу.
Мучат бедность и безбедность,
мучат слезы, мучит смех,
и мучительна безвестность,
и мучителен успех.
Но имеет ли значенье
мое личное мученье?
Сам такой же — не иной,
как великое мученье,
мир лежит передо мной.
Как он мучится, огромный,
мукой светлой, мукой темной,
хочет жизни небездомной,
хочет счастья, хочет есть!..
Есть в мученье этом слабость,
есть в мученье этом сладость,
и какая-то в нем святость
удивительная есть…
«О, нашей молодости споры…»
О, нашей молодости споры,
о, эти взбалмошные сборы,
о, эти наши вечера!
О, наше комнатное пекло,
на чайных блюдцах горки пепла,
и сидра пузырьки, и пена,
и баклажанная икра!
Здесь разговоров нет окольных.
Здесь исполнитель арий сольных
и скульптор в кедах баскетбольных
кричат, махая колбасой.
Высокомерно и судебно
здесь разглагольствует студентка
с тяжелокованой косой.
Здесь песни под рояль поются,
и пол трещит, и блюдца бьются,
здесь безнаказанно смеются
над платьем голых королей.
Здесь столько мнений, столько прений
и о путях России прежней,
и о сегодняшней о ней.
Все дышат радостно и грозно.
И расходиться уже поздно.
Пусть это кажется игрой:
не зря мы в спорах этих сипнем,
не зря насмешками мы сыплем,
не зря стаканы с бледным сидром
стоят в соседстве с хлебом ситным
и баклажанною икрой!
В ЦЕРКВИ КОШУЭТЫ[1]
Не умещаясь в жестких догмах,
передо мной вознесена
в неблагонравных, неудобных
святых и ангелах стена.
Но понимаю,
пряча робость,
я,
неразбуженный дикарь,
не часть огромной церкви — роспись,
а церковь — росписи деталь.
Рука Ладо Гудиашвили
изобразила на стене людей,
которые грешили,
а не витали в вышине.
Он не хулитель, не насмешник.
Он сам такой же теркой терт.
Он то ли бог,
и то ли грешник,
и то ли ангел,
то ли черт!
И мы,
художники,
поэты,
творцы подспудных перемен,
как эту церковь Кошуэты,
размалевали столько стен!
Мы, лицедеи-богомазы,
дурили головы господ.
Мы ухитрялись брать заказы,
а делать все наоборот.
И как собой ни рисковали,
как ни страдали от врагов,
Богов людьми мы рисовали
и в людях
видели
богов!
КАРЬЕРА
Ю. Васильеву
Твердили пастыри, что вреден
и неразумен Галилей,
но, как показывает время:
кто неразумен, тот умней.
Ученый, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.
И он, садясь с женой в карету,
свершив предательство свое,
считал, что делает карьеру,
а между тем губил ее.
За осознание планеты
шел Галилей один на риск.
И стал великим он… Вот это
я понимаю — карьерист!
Итак, да здравствует карьера,
когда карьера такова,
как у Шекспира и Пастера,
Гомера и Толстого… Льва!
Зачем их грязью покрывали?
Талант — талант, как ни клейми.
Забыты те, кто проклинали,
но помнят тех, кого кляли.
Все те, кто рвались в стратосферу,
врачи, что гибли от холер, —
вот эти делали карьеру!
Я с их карьер беру пример.
Я верю в их святую веру.
Их вера — мужество мое.
Я делаю себе карьеру
тем, что не делаю ее!
ОДИНОЧЕСТВО