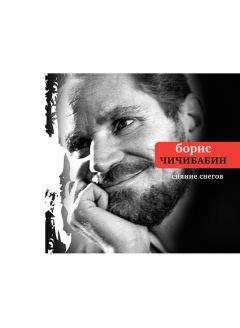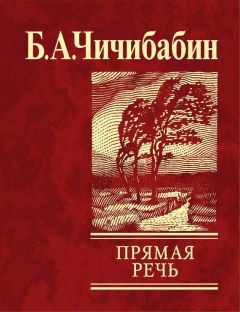Борис Чичибабин - Собрание стихотворений
Реальность
* * * Ну вот уже и книжки изданы{445},
и принимают хорошо, —
а я опять срываюсь из дому,
ветрами века окружен.
Все долговязые застенчивы,
а я к тому ж и сероглаз.
В таланты ладите… зачем же вы?
Душа гореть не зареклась.
Я — не в стихах, я — наяву еще,
я, как геолог, бородат,
я — работящий, я — воюющий,
меня подруги бередят.
На кой мне ляд писать загадочно,
чужую лиру брать внаем?
Россия, золотко, цыганочка,
звени в дыхании моем!
Да здравствуют мои заказчики —
строители и мастера!
Но и сирень держу в загашнике,
и алых капель не стирал.
Дарю любимой тело тощее,
иду тараном на врага, —
в стихах и днях — один и тот же я,
живые — сердце и строка.
ГАРМОНИЯ{446}
Гармония бывает разная.
Еще чуть-чуть пожившим мальчиком
я знал, что знамя наше — красное,
что жизнь добра, а даль заманчива.
С тех пор со мной бывало всякое —
бросало в жаркое и в зябкое,
вражда не отличалась логикой,
да и любовь была не легенькой…
Сказать ли пару слов об органах?
Я тоже был в числе оболганных,
сидел в тюрьме, ишачил в лагере,
по мне глаза девчачьи плакали.
Но, революцией обучен,
смотрел в глаза ей, не мигая,
не усомнился в нашем будущем
и настоящего не хаял.
Пусть будет все светло и зелено.
Ведь, если солнце и за тучами,
его жара в росе рассеяна,
в осанке женщины задумчивой,
в чаду очей, что сердцем знаемы,
в ознобе страсти, в шуме лиственном,
ну, и, конечно, в нашем знамени,
в том самом, ленинском, единственном.
Я знаю в ранах толк и в лакомствах,
и труд, и зори озорные.
О нет, на жизнь не стоит плакаться,
покуда в землю не зарыли.
В беде и в радости ни разу я
доспехи не таскал картонные.
Гармония бывает разная.
Я выстрадал тебя, Гармония.
* * * Сколько б ни бродилось, ни трепалось{447}, —
а, поди, ведь бродится давно, —
от тебя, гремящая реальность,
никуда уйти мне не дано.
Что гадать: моя ли, не моя ли?
Без тебя я немощен и нищ.
Ты ж трепещешь мокрыми морями
и лесными чащами шумишь.
И опять берешь меня всего ты,
в синеве речной прополоскав,
и зовешь на звонкие заводы,
и звенишь — колдуешь в колосках.
Твой я воин, жаден и вынослив.
Ты — моя осмысленная страсть.
Запахи запихиваю в ноздри,
краски все хочу твои украсть.
Среди бед и радостей внезапных,
на пирах и даже у могил
не ютился я в воздушных замках
и о вечной жизни не молил.
Жить хочу, трудясь и зубоскаля,
роясь в росах, инеем пыля.
Длись подольше, смена заводская,
свет вечерний, добрые поля.
Ну, а старость плечи мне отдавит,
гнета весен сердцем не снесу, —
не пишите, черти, эпитафий,
положите желудем в лесу.
Не впаду ни в панику, ни в ересь.
Соль твоя горит в моей крови.
В плоть мою, как бешеные, въелись
ароматы терпкие твои.
Ну так падай грозами под окна,
кровь морозь дыханием «марусь», —
все равно, покуда не подохну,
до конца, хоть ты мне и не догма,
я тебе — малюсенький — молюсь.
* * * Как Алексей Толстой и Пришвин{448},
от русской речи охмелев,
я ветром выучен и призван
дышать и думать нараспев.
О ритм реальности и прелесть!
Твои раздолье и роса
и мне до смерти не приелись,
и сам заказывал друзьям
идти, заглядывая в лица,
чем есть, с попутчиком делиться,
входить в колхозные дома,
смотреть багряные грома,
в трескучих рощах рыскать чертом,
веслом натруживать плечо
и обходиться хлебом черствым
да диким медом желтых пчел,
от русской речи охмелев,
сквозь ночь лететь на помеле
и кликать голосом охрипшим,
как Алексей Толстой и Пришвин.
Бери в товарищи того ты,
кто никому не господин,
чьи руки знают вкус работы,
чьи ноги знают вкус пути,
кто слов не толк в бумажной ступке,
а знает толк в лихом поступке,
кто любит запах хвой и вод
и сам из вольных воевод.
Я — сын Двадцатого столетья,
но перед будущим в долгу,
и ни отстать, ни постареть я
с друзьями рядом не могу.
Шумим листвой, капелью брызжем,
по рощам бронзовым и рыжим,
светлы от женщин и дерев,
близки своим и рады пришлым,
как Алексей Толстой и Пришвин,
от русской речи охмелев.
Люди — радость моя
ГОРЯЧИЙ РЕМОНТ{449}
На цементном заводе
в печи получился прогар.
Были подняты на ноги
все мастера футеровки.
«Не полезу», — взмолился
один малодушный и робкий.
«Ну и брысь от греха!» —
бригадир его спатки прогнал.
Ночь стояла в степи
и казалась совсем нежилой.
Было очень темно.
Редко-редко снежинка порхала.
Печь сливалася с ночью.
Она разевала жерло.
Алым светом на ней
обозначилось место прогара.
Сто пятнадцать по Цельсию.
Тут уже не до дремот.
У стоявшего близко
спина на морозе взопрела.
Собирали народ.
Футеровщики были в сомбреро,
в куртках, в валенках все.
Ожидался горячий ремонт.
Для несведущих лиц
объясняю попутно и кратко:
печь — труба на опорах,
в ней вечно бушует циклон.
И когда от огня
кое-где нарушается кладка,
это пекло мостят
кирпичами и жидким стеклом.
Мастер обжига был
огорчен перерывом досадным:
вся работа насмарку,
а тут еще насморк схватил…
Но уже футеровщики
влазили тесным десантом,
и в густой черноте
разгоравшийся факел светил.
От косматого войлока
ставшие, как мексиканцы;
люди в жарком жерле
волочили кирпич на плече,
заливали стеклом,
чтоб тому кирпичу не ссыхаться,
и железные клинья
вбивали промеж кирпичей.
А потом выходили,
шатаясь от жуткого жара,
и водой из сифонов
плескали друг другу в тела.
И вся смена, вся степь
им ладони горелые жала.
И смеялись они,
и стояли в чем мать родила.
«Отвернитесь, девчата!» —
кричали и пламенем пахли.
И не раз, и не два
им дыханье в груди переймет.
Я б как заповедь взял,
отирая тяжелые капли,
что поэзия вся —
это тоже горячий ремонт.
* * * Мы с детства трудились, как совесть велит, * [11]{450}
скитались в солдатской шинели.
Акации пахли, и шпанки цвели,
и птицы на ветках звенели.
Бывало, проснешься и шасть на крыльцо, —
и, шалостью души затронув,
дышала речушка хмельцой-мокрецой,
и пахло сиренью со склонов.
И мне ни за что, никогда, никуда
от памяти этой не деться.
Мы честно прожили былые года,
друзья и товарищи детства.
Но падали бомбы, поля пепеля,
стонала земля пригорюнясь.
Прощайте, девчонки! Прощайте, поля!
Моя опаленная юность!
И не была наша печаль коротка
в казармах военных училищ.
Вернулись — и нет над рекой городка,
от школы одни кирпичи лишь.
А за морем снова на юность, на мир
гремучие грузы подъемлют.
Так пусть же получше посмотрят они,
вглядятся попристальней в землю,
которую Грозный пытал и рубил,
Батый опрокидывал на кол,
в которой Чайковский мечтал и любил
и Чехов смеялся и плакал,
где знали сомненья, от стужи сомлев,
и все ж не гнушалися долей,
предчувствуя в этой холодной земле
тепло материнских ладоней.
Так пусть они всмотрятся в наши черты,
в наш день, что надеждою светел,
и знают, что люди любовью горды
и пламенем платят за пепел.
ОГОНЬ НА ПЛОЩАДИ{451}
Дороже всех сокровищ,
о город мой родной,
ты жизнь мою затронешь
той площадью одной,
где в память павших братьев,
погибнувших сестер,
мы будущего ради
навек зажгли костер.
Бессмертный дух партийцев
не может оскудеть.
Их подвигом гордится
рабочий и студент.
Их песни не умолкли,
хоть песенник уснул,
к ним стали комсомолки
в почетный караул.
Не может тот исчезнуть,
забыться и пропасть,
кто потрудился честно
и пал за нашу власть.
Добро, мой город, щедрый,
что слёз с лица не стер.
Пылает в самом центре
торжественный костер.
Бывает, что, минуя
чинушу и ханжу,
за помощью к нему я
ночами прихожу.
И видят магазины
и дальние дворы,
как свет неугасимый
на площади горит.
Горит, неостывающ,
ни летом ни зимой.
Сверни к нему, товарищ,
когда идешь домой.
Коль ты не гость случайный,
не высмотрщик пустой,
по-воински в молчанье
у пламени постой.
И пусть тебе не спится,
грядущее зовет.
Огня того частица
в душе твоей живет.
ОДА ХЛЕБОРОБУ{452}
Хлеборобу с кем меняться долей?
Он с самой природою в ладу:
добрый дождь клевал с его ладоней,
дальний ветер запахами дул.
Он не ждет награды от кого-то.
С ним дружны пчела и соловей.
От его стекающего пота
вся земля родней и солоней.
Он давал названья и оценки,
применял приметы и права
и дарил Толстому и Шевченко
заповедно-вещие слова.
Нет почетней властвовать над почвой,
в светлом мае, в августе сухом
постигать таинственный и точный
урожаев будущих закон.
Добрый труд — грядущего основа.
От любви яснеет влажный лоб.
Хлебороб. Как свято это слово!
Для людей хлопочет хлебороб.
Нам, работе выученным с детства,
не забыть нигде и никогда,
что поденный подвиг земледельца
есть начало всякого труда.
Он от солнца высветлен и солон
и, заботой полон кодцовской,
зажигает в колыбелях зерен
золотые души колосков.
К ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ{453}
Поэты шкур не берегут,
но и у риска есть различья:
упасть на бревна баррикад,
по пьяной лавочке разлечься.
Смотрели все Гомеру в рот,
а был он белый, как береза,
но — кто поэт и кто народ —
никто, поди, не разберется.
В страстях шершавых, как в шерсти,
прямой наследник Прометеев,
крестил нас радостью Шекспир
и стал шутом у грамотеев.
Громящий косность и корысть
непримиримо, по-бойцовски,
как мир, бескраен и горист,
клепал плакаты Маяковский.
Поэт — родня богатырю,
он движет мир и молньи мечет.
Я наши дни боготворю.
Так нам ли быть тусклей и мельче?
Иль от мальчишеских обид
в цинизм удариться за чаркой?
От тех стихов мозги снобит,
душе ж ни холодно, ни жарко.
И не такой уже простой,
возьмет читатель невзначай их
и спросит ласково: «Постой,
а что, бишь, это означает?»
Нет, если ты всего шутник,
то и цена тебе полтина
в базарный день. А в наши дни,
как жизнь, поэзия партийна.
Хвала героям и борцам
под сединою и загаром,
чей обжигающий бальзам
не для бездельников заварен.
Кто верен нашему костру,
кто ширь таежную облазил,
стоял у атомных кастрюль
и заставлял светиться лазер.
И если ты мне вправду брат,
коль ты доподлинно товарищ,
гори с людьми, их братству рад,
в работе будь неостывающ.
Будь дерзкий, с косностью воюй,
но, большелобый и рукастый,
гордись партийностью своей
и от святынь не отрекайся.
С утра трудись, как дровосек,
клонись, как сеятель, к тетрадям —
затем, чтоб стих твой был для всех,
но и обличья не утратил.
Белые кувшинки Балаклеи