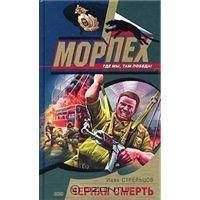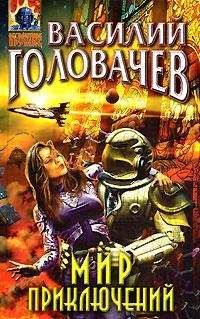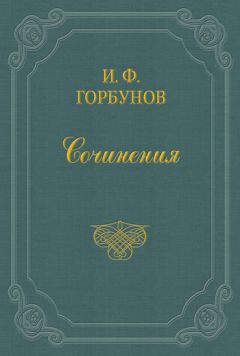Иван Рядченко - Время винограда
Пушкинский платан
Мне сказали, платан,
вы живете до тысячи лет.
Простучали дожди.
Два столетья уже пролетели.
Слишком рано ушел,
подаривший вам славу, поэт:
жизнь у них коротка,
даже если не будет дуэли…
Вы могучи еще,
хоть стоите слегка набекрень.
Под размашистой кроной
туристы толпятся часами.
Вы курчавы, платан,
как поэта великая тень,
хоть стихов гениальных,
конечно, не пишете сами.
Вы до самой зимы,
как светильник на тысячи свеч.
Вы весною опять,
как вчера, молодой и кудрявый.
Что ж вы спите, платан?
Научитесь поэтов беречь —
ну хотя бы уж тех,
что с деревьями делятся славой.
Белые ночи
Наверное, в полночный океан
хотело скрыться ясное светило,
когда за розоватый сарафан
его надежно небо ухватило.
И вот всю ночь волшебствует рассвет,
и все вокруг таинственно и странно.
И власти сна над нами больше нет —
мы просто свергли этого тирана!
Течет бесшумно невская вода,
над шпилем вечный парусник несется.
Ну, как уснуть, скажите мне, когда
не хочет спать единственное солнце?
Загадочна на монументах медь.
О, эта беспощадная блокада!
В последний час мой, чтоб не умереть,
я снова вспомню ночи Ленинграда.
Воды и неба розовая глубь.
Влюбленных пар волшебное скольженье,
магнит сердец и притяженье губ
сильнее, чем земное притяженье.
А Медный всадник скачет в пустоту,
и снова Пушкин бродит в упоенье,
и кони на известнейшем мосту
хотят бежать
из вечности
в мгновенье!..
«Ты не вошла бы в мир мой соловьино…»
Ты не вошла бы в мир мой соловьино,
когда б не стались тысячи вещей:
не выстояла в битвах Украина
под звон мечей и петли палачей.
И, нищий, холодея от печали,
не знал бы я твоих певучих слов,
когда б за сотни лет не прозвучали
в твоих садах сто тысяч соловьев.
В ресницах чаще б застревали тучи,
пронзительные слезы торопя,
когда бы вербы, молча и плакуче,
веками не грустили за тебя.
Вот почему, легко и соловьино,
что б ни было судьбою суждено,
До самой смерти
ты и Украина
в моей душе
сливаются в одно!
«Женщина была белым-бела…»
Женщина была белым-бела.
На топчан улыбчиво легла.
Солнца раскаленные лучи
за нее взялись, как палачи.
Словно Жанна д'Арк, на топчане
расплывалась женщина в огне.
Как фанатик, солнечный простор
хвороста подбрасывал в костер.
Чудилось соседям: под лучом
женщине
стать пеплом
нипочем.
А она внезапно над водой
встала статуэткой золотой.
Я тогда сомненью крикнул:
— Сгинь!
В женщинах есть что-то от богинь.
Луч погаснет, пепел опадет —
красота
над вечностью
взойдет!
Байдарские ворота
Я помню: машина летела вперед.
Налево. Направо. И вновь поворот.
Все выше, все круче дорога вела.
Уже простирались владенья орла.
Уже невесомость вступала в права.
Уже тошнотворно плыла голова.
Терпенье кончалось. Но вдруг поворот —
и вспыхнуло чудо Байдарских ворот:
открылся, живительно хлынул во взор
сиятельный
синий
соленый простор…
Пускай нас страшит лишь один поворот —
вдруг в жизни не будет Байдарских ворот?!
«Взволнованно не легеньким пассатом…»
Взволнованно не легеньким пассатом,
а злым норд-остом, смыслу вопреки,
вчера ты, море, тигром полосатым
на нас кидалось, скалило клыки.
Вчера взъярилось, глупое, спросонок.
Но вышла ночь и усмирила дрожь.
Сегодня ты, как голубой котенок,
мурлыча, о причалы спину трешь…
«Ялта, Ялта, вспененные реки…»
Ялта, Ялта, вспененные реки,
кипарисы в свежести зари,
тонкие, как листья, чебуреки
с солнечной подсветкой изнутри.
В уличках горбатых и неровных
сладкие туманы миндаля.
Шашлыки на уличных жаровнях
пышут жаром, душу веселя.
И везде — в киосках, в магазинах
и иа синеватых склонах гор —
солнце, закупоренное в винах,
сердцу откупоренный простор.
Гулок и прозрачен воздух синий.
И над вами день и ночь подряд
горы, как светила медицины,
в белоснежных шапочках стоят.
Мисхор
Бьет струя прозрачнее росы
в горло зазвеневшего кувшина.
Оглянись, красавица Арзы,—
нет ли где-то рядом злого джинна?
Ты еще пока что не раба.
Ждет тебя жених за перевалом.
Но уже старик Али-Баба
над тобой склонился с покрывалом.
Под скалой лежит кувшин пустой.
Замерли зеленые отроги.
Словно гор окаменевший стон,
пересох источник у дороги…
Ты домой вернешься через год,
убежав в русалки от султана.
И опять вода в скале забьет
говорливо, звонко, неустанно.
…Девушка, счастливых глаз не прячь
нет Али-Бабы в Мисхоре новом.
Но порой как будто чей-то плач
слышится в журчанье родниковом.
Слушай этот плач и этот вздох,
не позволь, чтоб, вызывая жалость,
хоть один источник пересох,
хоть одна любовь не состоялась!
Дождливый день в Ялте
Попрятал и море, и кручи
какой-то бессовестный плут.
Мышинные мокрые тучи
по улицам Ялты бредут.
Лишь птицы шумят, словно рынок,
полны деловой суеты.
Хрустальные серьги дождинок
себе нацепили кусты.
Под кроной орудует дятел
и каждый обследует сук.
Ах, дятел! Он, видимо, спятил —
к чему этот яростный стук?
Но он продолжает упрямо
морзянкой стучать по сосне,
как будто дает телеграмму,
чтоб солнце вернули весне…
«В ряд стоят на пирсе катера…»
В ряд стоят на пирсе катера,
ходят сварки маленькие грозы.
Это значит — близится пора
полного сверженья зимней прозы.
Вижу — просыпается земля
от громов ремонтной канонады.
А на склонах вспышки миндаля,
как весны бесшумные снаряды.
Скоро катера во всех портах
загудят, как ветер на кочевьях.
Просыхает сурик на бортах.
Набухают почки на деревьях.
«Олени вновь отзимовали…»
Олени вновь отзимовали.
Как сабли, скрещены рога.
А я стою на перевале,
там все еще лежат снега.
Нет, не снега — напоминанье,
что я взошел на перевал,
а спуск с него уже в тумане —
туман тропу облюбовал.
Но солнце здесь — бери руками!
Но здесь, где благостная тишь,
над облаками
и веками
так зачарованно стоишь.
И размышляешь о явленьях
и о потерях всех времен.
И только звон рогов оленьих
невольным эхом повторен.
Ветер в Ялте
Опять на город устремился холод,
и ветер с гор обрушился опять.
Скрипит наш дом, как судовой рангоут,
и, кажется, вздымается кровать.
Бросает ветер всей природе вызов,
всю ночь гудит, не жалуя жилья.
Нахохленные стрелы кипарисов
качаются, как мачты корабля.
Шумите, ветви! Здания, скрипите!
Из гула выплывают сквозь года
Австралия,
таинственный Таити,
портов японских дымная страда.
И чудится, что в сказочном бинокле
я различаю рядом, не вдали,
новозеландский небоскребный Окленд,
акулью отмель у чужой земли.
Мелькает за столицею столица,
вновь лезет в душу странствий вечный бес.
Но явственней всего я вижу лица
механиков, матросов, стюардесс.
Мои скитанья… Дело не в лазурях,
не в призрачной экзотике реклам.
Спасибо всем, кто был со мною в бурях
и разделял все ветры пополам.
Гудит ветрище, просто нет спасенья.
Несутся тучи, как девятый вал.
О, как порой нам нужно потрясенье,
чтоб вспомнить всех, кто с нами штормовал!
«На берег катится прибой…»