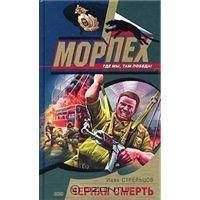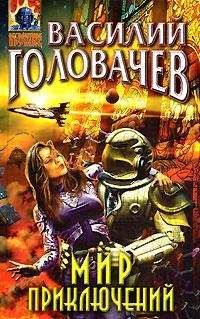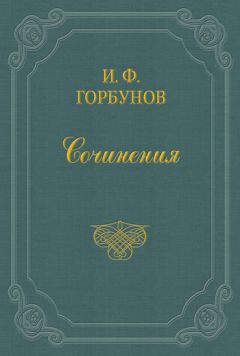Иван Рядченко - Время винограда
Египетский сон
Песок.
Пустыня.
Древняя гробница.
Все в мире
превращается
в песок.
Спят мумии.
Им ничего не снится —
ни власть,
ни золотая колесница,
ни золотой
девичий волосок.
Любовь истлела.
Ненависть истлела.
Как порошок,
рассыпалась душа.
Песок шершавый
движется, шурша.
Осталась только
оболочка тела…
О, как вы жалки,
царственные мумии,
пред силою вращения
Земли!
Как много унести
с собой
вы думали —
и ничего
с собой
не унесли.
Ни сан,
ни стены
царского чертога
от зла защитой
не служили вам:
вас проклинали нищие,
как бога,
вам жены изменяли,
как рабам…
И, глядя в даль,
сплошным песком покрытую,
я понимаю,
искренне скорбя,
что человек,
болевший пирамидою,
больнее всех
обманывал
себя.
У пирамид
Идея-фикс:
создать из камня бога.
Патлатый сфинкс,
ты знаешь слишком много.
Нет облаков,
везде раздолье зною.
Песок веков
теснится под стеною.
Крадется тишь
бесшумнее шакала.
Что ж ты молчишь?
Иль знаешь слишком мало?
В лучах зари,
во тьме тебе не сладко:
заговори —
и кончится загадка!
Слово о Баальбеке
Опять в журналах спор про Баальбек,
и суть его понятна и близка мне;
а был ли в силах лично человек
в далекий век таскать такие камни?
Иль пращур как бы мне давал взаймы,
умея в невозможном подвизаться?
Иль все, что застаем в пустыне мы,
высокий труд чужих цивилизаций?
Ровесники мои, ведите спор,
ведите спор, девчонки и мальчишки!
А мне ночами снится Самотлор
и мерзлоту дырявящие вышки.
Мне снится побежденная война
и мир, что утверждаем на планете.
Но вот придут иные времена
и споры поведут иные дети.
Тогда я, к сожаленью, промолчу…
А вот сейчас обидеться хочу
на тех, кто, может, скажет в дальней дали:
— Такое людям разве по плечу?
Нет, к ним, наверно, все же прилетали…
Женщина с ребенком
По улице шла
молодая японка.
Японка несла
за спиною
ребенка.
Шла женщина,
чуть наклонившись вперед.
Казалось, она
против ветра
идет.
Игрушечно тонки,
темнели ручонки,
обвившие
теплую шею
японки.
Но было такое доверие
в них,
что сердце куда-то
упало
на миг.
Почудилось мне,
что японка хотела
на улочке узкой
под солнцем косым
прикрыть малыша
беззащитностью тела
от всех
неизвестных еще
Хиросим…
Вишневая пушка
Когда-то вишня розово цвела,
лишь капли ягод проливала с веток.
Я видел пушку из ее ствола
в железных кольцах,
бондарем надетых.
Теперь ее поставили в музей,
и он открыт
не только для друзей.
Лист пожелтеет,
утечет вода.
Но есть одна неписаная книга:
стреляет даже дерево,
когда
народ встает
и сбрасывает иго!
Каролино-Бугаз
Каролино-Бугаз, если всмотритесь вы,
золотая коса на плечах синевы.
Век за веком он тянется, этот роман:
тут встречается с морем Днестровский лиман.
Пережженной листвой опадают года.
Под мостом в океаны уходит вода.
Мы лежим на косе. Чайки плещут крылом.
Словно медом, светило нас поит теплом.
Каролино-Бугаз, Каролино-Бугаз,
научи удивительной верности нас.
Чтоб лежала любовь под лучом маяков
золотою косой на плечах у веков…
Крепость в Белгороде-Днестровском
Все те ж приметы старых крепостей —
стена, зубцы, безжизненные башни,
ров на пути непрошенных гостей…
Давно окаменевший день вчерашний.
Лягушки сонно квакают во рву,
кузнечики спешат посторониться.
И — никого. Порой спугнешь сову,
дремавшую в проеме у бойницы.
Дворы, давно заросшие травой,
везде остатки козьего помета.
И только солнце с высоты полета
на крепость взор бросает огневой…
Что ж ты стоишь? Зови воображенье!
Возникнет шелк турецкого шатра,
рев янычар, шипучий свист ядра —
все голоса минувшего сраженья.
Ах, память, память! Я тебя боюсь.
Порой при посещении развалин
ты лучше бы молчала — наш союз
невыносимо горек и печален.
Однажды я невольно посетил
былой любви холодные руины.
Скрипел на узком мостике настил.
Все было, словно в крепости старинной:
дворы, давно заросшие травой,
молчанье стен, безжизненные башни.
И понял я под знойной синевой,
что попусту вторгаюсь в день вчерашний.
Я осознал: не нужно прежних нот.
Мне не догнать умчавшуюся стаю.
Ведь я все то, что память здесь вернет
не так приобрету, как потеряю.
На все мои призывные слова
лишь гул из подземелий возвратится
да вылетит всполошенно сова,
дремавшая в проеме у бойницы.
В степи у Каховки
Лихих коней тугие холки,
удар копыт, как динамит…
В степи у города Каховки
тачанка грозная гремит.
Мгновенья замерли в металле,
чтоб, встречным ветрам вопреки,
седые кони не устали,
не поседели седоки.
Они летят в копытном стуке
по легендарной тишине.
Уже их сыновья и внуки
убиты на другой войне.
Уже в степи морская чайка
парит за мощным плугом вслед.
А неумолчная тачанка
несется к нам из прошлых лет.
Во вьюгах зим, весной зеленой,
на конном яростном бегу
конноармейцы Первой Конной
еще стреляют по врагу.
В необозримости пространства,
под грохот бронзовых копыт,
как будто символ постоянства,
тачанка вечная летит.
Звенят натянуто постромки,
сжимает вожжи ездовой.
И расступаются потомки
перед тачанкой боевой.
Каменные бабы
Мы стоим, как неприкаянные,
слышим шорох ветерка.
Перед нами бабы каменные,
пережившие века.
Лица грубы, цветом глинисты,
под губами — трещин сеть.
Сколько ж надо горя вынести,
чтобы так окаменеть!
Мы стоим, глядим на трещины,
вспоминая, как за миг
каменели наши женщины
от известий фронтовых.
Острым горем заарканенной
трудно бабе. Но, хоть вой,
легче стать внезапно каменной,
чем из камня стать живой.
Оживали наши женщины,
возвращалась доброта.
Только маленькие трещины
оставались возле рта…
Перун
Неразговорчивый и странный,
веками вслушиваясь в гром,
Перун, язычник деревянный,
стоял на круче над Днепром.
С чертами, как земля, простыми,
он был людьми боготворим
за то, что был придуман ими
и мог один лишь слыть святым.
Однажды берег словно вымер,
и вздрогнул идол,
и окрест
он увидал: идет Владимир,
чтобы на нем поставить крест.
Под шепот волн и шорох злаков,
под беспощадный шум подошв
Перун все понял —
и заплакал.
(А может, просто грянул дождь.)
И было странно чуть и струнно
Веревки свистнули у ног.
И был закончен пир Перуна —
во имя бога свален бог!
Его в бока кололи долго,
и от проклятий он оглох.
Так люди оскорбляли бога,
как бог их оскорбить не мог!
И, осквернен копьем и словом,
осмеян на чужом пиру,
святой Перун бревном дубовым
поплыл по синему Днепру.
Хоть не умел огня он высечь,
а истуканом был немым,
кидалось в воду много тысяч
огнепоклонников за ним.
И светлый князь отставил чашу
и выслал лучников вперед,
чтоб взять язычника под стражу,
лишь тот минует поворот.
Луна уже синила дали.
Умолкнул тополь-говорун.
Напрасно христиане ждали —
исчез таинственный Перун.
Прошли века… На зорьке дымной
весна в Днепре ломает лед.
Стоит на круче князь Владимир
и, может быть, чего-то ждет.
Пушкинский платан