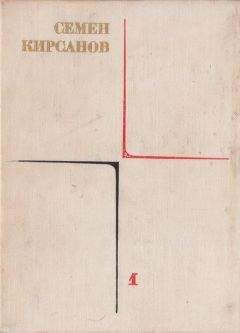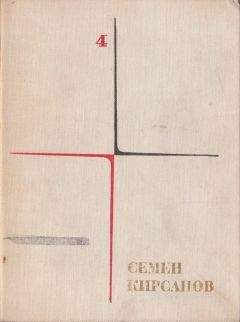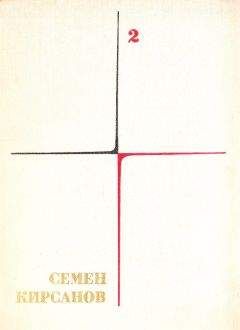Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 1. Лирические произведения
Асееву
Какая прекрасная легкость
меня подымает наверх?
Я — друг, проведенный за локоть
и вкованный в песню навек.
Как песня меня принимала,
нося к соловьиным боям!
Как слушало ухо Лимана
речную твою Обоянь!
Не ты ли, сверканьем омытый, —
на люди! на землю! на синь! —
Оксаны своей оксамиты,
как звезды, в руках проносил?
И можно глазища раззарить —
что словом губа сведена,
что может сверкнуть и ударить
как молния в ночь — седина.
В меня залетевшая искра,
бледнея и тлея, светись,
как изморозь речи, как избрань
защелканных песнями птиц!
Рост лингвиста
Сегодня окончена юность моя.
Я утром проснулся в халате и туфлях,
увидел: взрослеют мои сыновья —
деревья-слова, в корневищах и дуплах.
И стала гербарием высохших слов
тетрадь молодого языковеда,
но сколько прекрасных корней проросло,
но сколько запенилось листьями веток!
Сады словарей посетили дожди,
цветут дерева, рукава подымая,
грузинское ЦХ и молдавское ШТИ,
российское ОВ, украинское АЕ.
К зеленым ветвям, закипая внизу,
ползут небывало зеленые лозы —
китайское ЧЬЕН, и татарское ЗУ,
и мхи диалектов эхоголосых.
Я слышал: на ветке птенец тосковал,
кукушка, как песня, в лесу куковала, —
и понял: страна моя такова!
А лес подымался, а речь ликовала…
Весною раскроется сад словарей,
таившийся в промхах кореньев сыновних,
и то, что лелеял еще в январе,
тяжелым и спелым увидит садовник.
Склонения
— Именительный — это ты,
собирающая цветы,
а родительный — для тебя
трель и щелканье соловья.
Если дательный — всё тебе,
счастьем названное в судьбе,
то винительный — нет, постой,
я в грамматике не простой,
хочешь — новые падежи
предложу тебе? — Предложи! —
Повстречательный есть падеж,
узнавательный есть падеж,
полюбительный, обнимательный,
целовательный есть падеж.
Но они не одни и те ж —
ожидательный и томительный,
расставательный и мучительный
и ревнительный есть падеж.
У меня их сто тысяч есть,
а в грамматике только шесть!
Зимняя восторженная
Снега! Снега! Меха! Меха!
Снежинок блеск! Пушинок свет!
Бела Москва, тиха, мягка,
подостлан пух мехов Москве.
Тяжел, колюч кожух-тулуп,
но верхних нот нежней енот.
Тулуп бредет в рабочий; клуб,
енот с бобром: — Куда? — В кино!
Синей, синей полет саней,
в морозном дыме мчит рысак,
и дом синей, и дым синей,
и ты синей, моя краса!
Снега — сверкнут, меха куснут,
свернется барс, ввернется рысь!
Прилег сугроб на снег уснуть,
но снова бег, но снова рысь!
Мороз, мороз! Кусни, щипни,
рвани за ухо, за нос хвать!
Пусть нарасхват снежков щебни
тебе залепят рот, Москва.
Чтоб ты была тиха, бела,
чтоб день скрипел, снежон и бел,
чтоб мерзли в ночь колокола,
чтоб звезды тронул школьный мел.
Пускай блеснут снега, меха
на зимний свет, на белый цвет.
Бела Москва, тиха, мягка,
подостлан пух мехов Москве.
Девушка и манекен
С папироскою «Дюшес» —
девушка проносится.
Лет примерно двадцать шесть,
пенсне на переносице.
Не любимая никем
(места нет надежде!)
вдруг увидит — манекен
в «Ленинградодежде».
Дрогнет ноготь (в полусне)
лайкового пальца.
Вот он девушке в пенсне
тайно улыбается.
Ногу под ногу поджав,
и такой хорошенький
Брючки в елочку, спинжак,
галстушек в горошинку.
А каштановая прядь
так спадает на лоб,
что невинность потерять
за такого мало!
Вот откинет серый плащ
(«Выйди, обними меня!»).
Подплывает к горлу плач.
«Милый мой! Любименький!»
И ее со всей Москвой
затрясет от судорог.
Девушка! Он восковой.
Уходи отсюдова!
Гулящая
Завладела киноварь
молодыми ртами,
поцелуя хинного
горечь на гортани.
Черны очи — пропасти,
беленькая челка… —
Ты куда торопишься,
шустрая девчонка?
Видно, что еще тебе
бедовать нетрудно,
что бежишь, как оттепель
ручейком по Трубной.
Всё тебе, душа моя,
ровная дорожка,
кликни у Горшанова
пива да горошка.
Станет тесно в номере,
свяжет руки круто,
выглянет из кофточки
молодая грудка.
Я скажу-те, кралечка,
отлетает лето,
глянет осень краешком
желтого билета.
Не замолишь господа
никакою платой —
песня спета: госпиталь,
женская палата.
Завернешься, милая,
под землей в калачик.
Над сырой могилою
дети не заплачут.
Туфельки лядащие,
беленькая челка…
Шустрая, пропащая,
милая девчонка!
Разговор с бывшей
Не деньга ли у тебя завелась,
что подстриглась ты и завилась?
Вот и ходишь вся завитая,
и висок у тебя — запятая!
Будь любезен, ты меня не критикуй,
у меня полон денег ридикуль.
Я Петровкой анадысь проходила
и купила ридикуль из крокодила.
Будь любезна, расскажи про это мне:
не стипендию ли класть в портмоне?
Или стала ты, повыострив норов,
получать гонорар от ухажеров?
Подозрительный ты стал, дорогой!
Он мне нужен для надоби другой —
а для пудреницы, хны и помады
и платочки чтобы не были помяты.
Ты не прежним говоришь языком,
да мое тебе слово — не закон,
этих дней не оборвать, не побороть их!
Разойдемся ж, как трамваи в повороте!
Белофетровой кивнула головой,
помахала ручкой — замшей голубой,
отдала кондуктору монету
и по рельсам заскользила — и нету!
Нащот шубы
У тебя пальтецо
худоватенькое:
отвернешь подлицо
бито ватенкою.
А глядишь, со двора —
не мои не юга,
а твои севера,
где снега да вьюга!..
Я за тайной тайги,
если ты пожелашь,
поведу сапоги
в самоежий шалаш.
А у них соболей —
что от них заболей!
А бобров, а куниц —
хоть по бровь окунись!
На ведмедя бела
выйду вылазкою.
Чтобы шуба была,
шкуру выласкаю.
Я ведмедя того
свистом выворожу,
я ведмедю тому
морду выворочу.
Не в чулках джерси,
подпирая джемпр, —
ты гуляй в шерсти
кенгуров и зебр,
чтобы ныл мороз,
по домам трубя,
чтоб не мог мороз
ущипнуть тебя.
Ей
Я покинул знамена
неба волости узкой,
за истоками Дона,
коло Тростенки Русской.
И увез не синицу,
но подарок почтовый,
а девицу-зеницу
за глухие трущобы.
И не поезд раскинул
дыма синие руки —
и, закинув на спину,
вынес тело подруги.
Волк проносит дитятю
мимо логов сыновних,
мимо леса, где дятел —
телеграфный чиновник.
То проточит звереныш
ржи заржавленный волос,
то качнется Воронеж, то —
Репьевская волость!
Хорошо ему, волку,
что она, мимо гая,
на звериную холку
никнет, изнемогая.
Грузинская