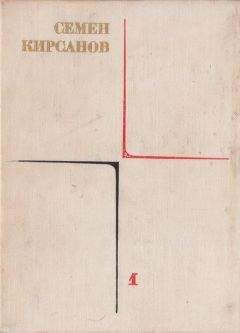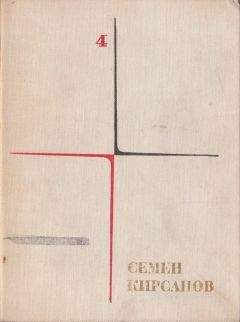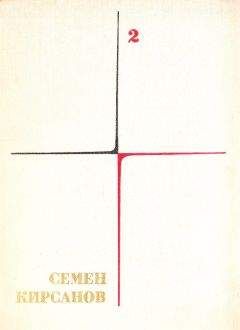Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 1. Лирические произведения
Осень
Les sanglots longs…
Paul Verlaine[1]Лес окрылен,
веером — клен.
Дело в том,
что носится стон
в лесу густом
золотом…
Это — сентябрь,
вихри взвинтя,
бросился в дебрь,
то злобен, то добр
лиственных домр
осенний тембр.
Ливня гульба
топит бульвар,
льет с крыш…
Ночная скамья,
и с зонтиком я —
летучая мышь.
Жду не дождусь…
Чей на дождю
след?..
Много скамей,
но милой моей
нет!..
Сентябрьское
Моросит на Маросейке,
на Никольской колется…
Осень, осень-хмаросейка,
дождь ползет околицей.
Ходят конки до Таганки
то смычком, то скрипкою…
У Горшанова цыганки
в бубны бьют и вскрикивают!..
Вот и вечер. Сколько слякоти
ваши туфли отпили!
Заболейте, милый, слягте —
до ближайшей оттепели!
Любовь лингвиста
Я надел в сентябре ученический герб,
и от ветра деревьев, от веток и верб
я носил за собою клеенчатый горб —
словарей и учебников разговор.
Для меня математика стала бузой,
я бежал от ответов быстрее борзой…
Но зато занимали мои вечера:
«иже», «аще», «понеже» et cetera…
Ничего не поделаешь с языком,
когда слово цветет, как цветами газон.
Я бросал этот тон и бросался потом
на французский язык:
Nous étions… vous étiez… ils ont…
Я уже принимал глаза за латунь
и бежал за глазами по вечерам,
когда стаей синиц налетела латынь:
«Lauro cinge volens, Melpomene, comam!»
Ax, такими словами не говорят,
мне поэмы такой никогда не создать!
«Meine liebe Mari», — повторяю подряд
я хочу по-немецки о ней написать.
Все слова на моей ошалелой губе —
от нежнейшего «ax» до клевков «улюлю!».
Потому я сегодня раскрою тебе
сразу все: «amo», «j'ame», «liebe dich» и «люблю».
В черноморской кофейне
О, город родимый! Приморская улица,
где я вырастал босяком голоштанным,
где ночью одним фонарем караулятся
дома и акации, сны и каштаны.
О, детство, бегущее в памяти промельком!
В огне камелька откипевший кофейник.
О, тихо качающиеся за домиком
прохладные пальмы кофейни!
Войдите! И там, где, столетье не белены,
висят потолки, табаками продымленные.
играют в очко худощавые эллины,
жестикулируют черные римляне…
Вы можете встретить в углу Аристотеля,
играющего в домино с Демосфеном.
Они свою мудрость давненько растратили
по битвам, по книгам, по сценам…
Вы можете встретить за чашкою «черного»
глаза Архимеда, вступить в разговоры: —
Ну как, многодумный, земля перевернута?
Что? Найдена точка опоры?
Тоскливый скрипач смычком обрабатывает
на плачущей скрипке глухое анданте,
и часто — старухой, крючкастой, горбатою,
в дверях появляется Данте…
Дела у поэта не так ослепительны
(друг дома Виргилий увез Беатриче)…
Он перцем торгует в базарной обители,
забыты сонеты и притчи…
Но чудится — вот-вот навяжется тема,
а мысль налетит на другую — погонщица
за чашкою кофе начнется поэма,
за чашкою кофе окончится…
Костяшками игр скликаются столики;
крива потолка дымовая парабола.
Скрипач на подмостках трясется от коликов;
Философы шепчут: — Какая пора была!..
О, детство, бегущее в памяти промельком!
В огне камелька откипевший кофейник…
О, тихо качающиеся за домиком
прохладные пальмы кофейни.
Стоят и не валятся дымные, старые
лачуги, которым свалиться пристало…
А люди восходят и сходят, усталые, —
о, жизнь! — с твоего пьедестала!
Моя автобиография
Грифельные доски,
парты в ряд,
сидят подростки,
сидят — зубрят:
«Четырежды восемь —
тридцать два».
(Улица — осень,
жива едва…)
— Дети, молчите.
Кирсанов, цыц!..
сыплет учитель
в изгородь лиц.
Сыплются рокотом
дни подряд.
Вырасту доктором
я (говорят).
Будет нарисовано
золотом букв:
«ДОКТОР КИРСАНОВ,
прием до двух».
Плача и ноя,
придет больной,
держась за больное
место: «Ой!»
Пощупаю вену,
задам вопрос,
скажу: — Несомненно,
туберкулез.
Но будьте стойки.
Вот вам приказ:
стакан касторки
через каждый час!
Ах, вышло иначе,
мечты — пустяки.
Я вырос и начал
писать стихи.
Отец голосил:
— Судьба сама —
единственный сын
сошел с ума!..
Что мне семейка —
пускай поют.
Бульварная скамейка —
мой приют.
Хожу, мостовым
обминая бока,
вдыхаю дым
табака,
Ничего не кушаю
и не пью —
слушаю
стихи и пою.
Греми, мандолина,
под уличный гам.
Не жизнь, а малина —
дай бог вам!
Маяковскому
Быстроходная яхта продрала бока,
растянула последние жилки
и влетела в открытое море,
пока от волненья тряслись пассажирки.
У бортов по бокам отросла борода,
бакенбардами пены бушуя,
и сидел, наклонясь над водой, у борта
человек, о котором пишу я.
Это море дрожит полосой теневой,
берегами янтарными брезжит…
О, я знаю другое, и нет у него
ни пристаней, ни побережий.
Там рифы — сплошное бурление рифм,
и, черные волны прорезывая,
несется, бушприт в бесконечность вперив,
тень парохода «Поэзия».
Я вижу — у мачты стоит капитан,
лебедкой рука поднята,
и голос, как в бурю взывающий трос,
и гордый, как дерево, рост.
Вот вцепится яро, зубами грызя
борта парохода, прибой, —
он судно проводит, прибою грозя
выдвинутою губой!
Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
я радостью скручен, как вьюгой,
что мне с командиром таким довелось
шаландаться по морю юнгой.
Пускай прокомандует! Слово одно —
готов, подчиняясь приказам,
бросаться с утеса метафор на дно
за жемчугом слов водолазом!
Всю жизнь, до седины у виска,
мечтаю я о потайном.
Как мачта, мечта моя высока:
стать, как и он, капитаном!
И стану! Смелее, на дальний маяк!
Терпи, добивайся, надейся, моряк,
высокую песню вызванивая,
добыть капитанское звание!
Морская песня
Мы — юнги, морюем на юге,
рыбачим у башен турецких,
о дальних свиданьях горюем,
и непогодь резкую любим,
и Черного моря девчонок —
никчемных девчонок — голубим.
И мы их, немилых, целуем,
судачим у дачных цирулен
и к нам не плыла с кабалою —
кефаль, скумбрия с камбалою!
Но, близкая, плещет и блещет
в обводах скалистых свобода!
Подводный мерещится камень
и рыбы скользят на кукане,
и рыбий малюсенький правнук
рывками тире телеграфных
о счастье ловца сообщает,
и смрадная муха смарагдом
над кучей наживки летает.
Я вырос меж рыб и амфибий
и горло имею немое.
О, песня рыбацкая! Выпей
дельфинье одесское море!
Ко мне прилетают на отдых
птицы дымков пароходных.
Асееву