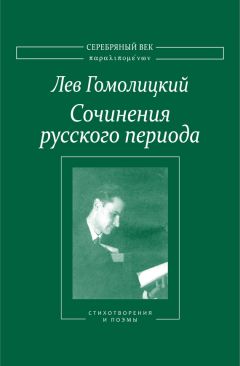Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихи. Переводы. Переписка. Том 2
В альбоме П. Мошинского сохранился черновой вариант этого сонета. Вот перевод его второй редакции:
КИКИНЕИЗ, ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ
Пилигрим и Мирза
П: Меж расщелин сверкает синевы виденье?
М: Это море. – П: А в волнах пятна снега эти?
М: То облака, мы сверху видим их в полете.
П: А мхи вон там вдоль брега? – М: Мхи? – чинар скопленье.
П: Камни путь завалили. – М: Тут были селенья,
Буря их сокрушила; обломки мечетей,
Насыпаны деревья – торчат сучьев плети;
А над ними, ты мыслишь, мошкары движенье?
То орлы!.. Но стой – пропасть: под ногой опоры
Нет; отъедем: скачу я лётом горной лани;
Ты ж с уздою короткой, с готовою шпорой
Следи, когда исчезну: меж утесов граней
Перо не промелькнет ли на моем тюрбане;
Если нет – уже людям здесь не ехать в горы.
К сонету XVII. Руины замка в Балаклаве. – Балаклава город на южном берегу Крыма в 14 верстах от Севастополя. Был основан скифами. Затем принадлежал грекам под названием Символон. В XIV им завладели генуэзцы, переименовав в Чембало. Настоящее название дано турками и значит «гнездо рыб». Тут еще сохранились развалины башен и стен со времен греческих и генуэзских. Это единственный сонет, в котором Мицкевич обращает внимание на античные развалины. Пятая строка начинается глаголом Трембецкого szczeblować – подыматься по ступеням. В восьмой неточность (провинциализм?) obwiniony в смысле обвитый. В последней строке архаизм baszta.
Дословный перевод:
Эти замки, рухнувшие / в развалины без лада,
Украшали тебя и хранили, / о неблагодарный Крым!
Ныне торчат на горах, / как черепа гигантские;
В них гад живет или человек / подлейший гада.
Взберемся на башню, / я ищу гербов следа;
Есть и надпись, это, может, / героя имя,
Что было войск страхом, / в забвении дремлет,
Обвито, как чернь, листом винограда.
Тут Грек высекал в стенах / афинские украшения,
Отсель Италиец Монголам / грозил железом
И из Мекки пришелец / напевал песнь намаза;
Ныне коршуны черным крылом / облетают могилы,
Как в городе, который дотла / истребит зараза,
Вечно с башен развеваются / флаги траура.
Примечание составителей: В машинописи Гомолицкого последняя строка первоначально выглядела так:
Со стен чорные флаги спущены навеки.
«Спущены» были выправлены на «воздеты» перед тем, как найден был конечный вариант.
К сонету XVIII. Аюдаг. – Аюдаг (медведь-гора) гора на южном берегу Крыма в 16 верстах от Ялты в сторону Алушты. «Бардон» (11-я строка) – судя по примечанию Мицкевича к последнему «любовному» сонету Exkuza, где употреблено то же слово, это древнегреческий барбитон, «алкеева лютня». Создавая неизвестное слово «бардон», Мицкевич, м. б., связывал его также с любезным романтикам «бардом». Козлов перевел Аюдаг, как I и XIV сонеты, сонетною формой.
Дословный перевод:
Люблю взирать, опершись / о Юдага скалы,
Как вспененные валы, / то в черные ряды
Стеснившись, ударяют, / то, как серебряные снега,
В тысячных радугах / кружатся великолепно.
Трутся о мель, / разбиваются на волны,
Как армия китов / облегая берега,
Захватят сушу в триумфе / и обратно, беглецы,
Влекут за собой раковины, / перлы и кораллы.
Похоже на твое сердце, / о поэт молодой!
Страсть часто грозные / возбуждает непогоды;
Но когда подымеш бардон, / она без вреда тебе
Бежит в забвения / погрузиться тони
И бессмертные песни / за собой обронит,
Из которых века сплетут / украшение твоих висков.
Сонетом XVIII-м «Аюдаг» завершается цикл Крымских сонетов. Фолькерский делит их на следующие композиционные группы. Четыре первые – «морские» (если присоединить к собственно морским Аккерманские степи с их степным «сухим океаном»). Пятый сонет на границе между водным путем в Крым и его сушей; отсюда показан общий вид на горы. Четыре следующие сонета изображают развалины Бахчисарая; четыре дальнейшие происходят в долинах, даже Чатырдаг виден снизу (у стоп его твердыни). Тут вторая граница – у подножия гор. «Поэт возьмет теперь себе в помощь Мирзу: сонет XIII вложен в уста Мирзы, сонет XIV в уста Пилигрима, сонет XV их диалог». Четыре последние сонета полны снова дикой природой – пропастями, расстилающимися далеко внизу видами на море и долины, развалинами на скалах и изменчивостью водной стихии (Фолькерский). Всё это завершается темой возрождающейся силы творчества. Внутренние страсти и невзгоды, заслоняющие внешний мир от поэта, приравнены к «бунтующей влаге», то атакующей берег, то обращающейся в бегство, оставляя на отмели дань из раковин, жемчужин и кораллов.
Так страсти пылкие подъемлются грозою,
На сердце у тебя кипят, младой певец;
Но лютню ты берешь, – и вдруг всему конец.
Мятежные бегут, сменяясь тишиною,
И песни дивные роняют за собою:
Из них века плетут бессмертный твой венец.
(Козлов)
К сонету Ястреб. – Этот сонет, неоконченный (отсутствует последняя строка) и не вошедший в «Сонеты», был напечатан в посмертных изданиях Мицкевича по автографу из альбома П. Мошинского. Его можно рассматривать как переходной от цикла ранних «любовных» сонетов к Крымским, где он мог бы занять место среди первых «морских» сонетов. Тут Мицкевич обращается непосредственно к участнице Крымского путешествия – Собаньской. По-видимому, благодаря этому личному моменту сонет и был отброшен Мицкевичем. Джьованна – так поэт называет Собаньскую, реминисцируя Данте (Брухнальский). Джьованна была возлюбленной друга Данте поэта Гвидо Кавальканти. Данте упоминает о монне Ванне в одном из своих сонетов.
Дословный перевод сонета:
Бедный ястреб! среди неба / похитила его туча,
В чуждую занесла стихию / и дальние страны;
Морской пронизанный росою, / вихрями утомленный,
Среди людей на этой мачте / растопырил свои перья.
Не бойся! никакая на тебя / не охотится рука,
Беспечен, как бы сидел / на лесной ветви.
Он гость, Джьованна! / кто гостя схватит,
Если он на море, / пусть бури боится.
Оглянись на мою, оглянись / на твою жизнь!
И ты на жизни море – / видела чудовищ,
И меня вихрь отбросил, / ненастье смочило крылья.
На что же эти слова утехи, / эти обманчивые надежды?
Сама в опасности – / другим ставишь сети…
Примечания составителей
Печатается по машинописи – ГАРФ, ф. 6784, оп. 1, ед. хр. 49. Сопроводительная запись рукой В.Ф. Булгакова:
Адам Мицкевич
Крымские сонеты.
Перевод
Л.Н. Гомолицкого
Варшава
1942
Прислано автором для помещения в Русском Культурно-Историческом Музее.
Необходимо присоединить к рукописям других сборников его стихов, хранящимся в архиве Музея.
В.Б.
Прага, 23.II.1943
В тексте переводов сохраняются индивидуальные орфографические особенности, свойственные Гомолицкому в этот период (лиш, ноч и т.п.). Составленный им список использованной литературы приближен к современным нормам библиографического описания. Таблицы с расчетами, упоминаемые Гомолицким в предисловии к переводу, в настоящем издании опущены.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
1. Гомолицкий – А.Л. Бему
Многоуважаемый
господин профессор!
Недавно я прочел в газете Слово (№ 78 с.г.) о существовании в Праге под Вашим руководством «Скита поэтов»[157]. Это было моей давнишней мечтой – именно скит, а не цех. Цех звучит как-то грубо, точно поэты делают стихи как профессиональные рабочие. Скит же предполагает некое братское объединение и поддержку. О ските поэтов мне пришло в голову, когда я думал о бесплодности гения и о том, что творчество в области искусства есть, м<ожет> б<ыть>, не что иное, как видоизменение творчества пола.
В газете сказано досадно мало. Ни задач, ни средств скита, конечно творческих. Я сейчас даже позавидовал тем, которые пробрались в Прагу. Но я надеюсь, что ведь можно связаться издалека и Вы не откажете мне в этом. Мне хотелось, если это возможно, быть принятым в число скитников. Я, может быть, буду чем-нибудь полезен в свою очередь.
С 1921 года моего творчества, о котором Вы, м<ожет> б<ыть>, и помните, утекло много воды и случился со мною глубокий перелом. Я впал в мистику, потому что нельзя было не впасть, если вам показывают извне оккультные вещи. Если неожиданно в глаза сверкает внешнее солнце и взрывы сопровождаются перестройкой миросозерцания. Я был там, где для того, чтобы понять, надо «дотронуться», а после того вдруг узнал, что такое вера. Но узнал несовершенно. Сразу с уклоном в церковность. И целый год я жил в самой узкой церковности, соприкасающейся с неумолимым аскетизмом. Тогда моим руководством были: «О подражании Христу»[158] и монах Евагрий (Добротолюбие т. I). Но я истощил себя, ибо было и рано, во-первых, и в «миру» производить над собою такие опыты было опасно. Тогда я перешел к отчаянью – «унынию». А после, осенью, со мною случилось удивительное явление, о котором я после читал и которое случалось с другими, но в более сильной степени, чем у меня. Выражается оно внезапностью прихода, светом (не дневным), озаряющим всё окружающее для субъекта (даже ночью), и особым миросозерцанием, справедливо называемым некоторыми «космическим сознанием»[159]. Я переживал это несовершенно, в форме некоего экстаза, и длилось это состояние, иногда доходя до мучительного, месяца три. С тех пор я успокоился. Правда, изучал таро и Бhагават Гиту, но уже не беспокоен, как раньше, не ищу «истины» или «мудрости», и, когда стали получаться малые медиумические явления (поблескивания и пр.), я бросил практику Раджа Иоги. Все эти переживания шли параллельно творчеству. Я вел как бы дневник стихами. Этот дневник (1921-1925) я назвал «Книга Книг». Отрывки из него как образцы моего письма я привожу ниже. Здесь я разрабатывал почти исключительно ямб. Занимался я довольно много теорией стихотворчества, хотя и не могу последовательно работать над собой в этой области. Мне кажется, что русское стихотворчество находится в своем детском периоде. Содержания много, много пережито во всех областях, а средств выражения почти нет. Взять хотя бы музыкальное ударение (о нем забыли, а Крылов им пользовался, и у Лермонтова: скажи-ка, дядя, ведь недаром и т.д.) или ударяемые гласные, как у Блока: идут, идут испуганные тучи. Или разве исчерпаны все тонические размеры ямбическою и дактилическою строкою, да и многое, очень многое, включая силлабическую систему, почему-то считающуюся недостойной русского языка.