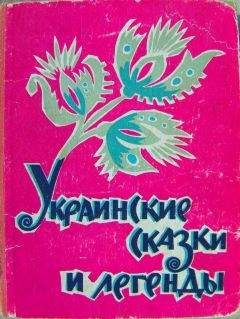Максим Богданович - Белорусские поэты (XIX - начала XX века)
ЧЕТВЕРНОЙ АКРОСТИХ
Ах, как умеете Вы, Анна,
Не замечать, что я влюблен.
Но всё же шлю я Вам не стон,
А возглас радостный: осанна!
«Уймитесь, волнения страсти…»
Уймитесь, волнения страсти,
Усни, безнадежное сердце.
Угрюмо, тоскливо
Неситесь года за годами,
Угрюмо, тоскливо.
Одну лишь таю я надежду:
У Ани родится ребенок,
Похожий на маму,
С глазами, как темные звезды,
Похожий на маму.
Отдам свою жизнь ему в руки, —
Пускай тогда будет что будет:
Иль пусть он в ручонках
Сломает ее, как игрушку,
Иль пусть он в ручонках
Согреет мне сирое сердце.
ЗЕЛЕНАЯ ЛЮБОВЬ
По улице, смеясь, шаля,
Проходят бойко гимназисточки.
Их шляпок зыблются поля,
И машут нотных папок кисточки.
Болтают, шутят, не боясь,
Что их сочтут еще зелеными.
Но чья б душа не увлеклась
Коричневыми papillon’ами[96].
Вон, словно цапля, за одной
Кокетливой вертиголовкою
Кадет, высокий и прямой,
Идет походкою неловкою.
Близка уж стужа зимних дней;
Покрыта вся панель порошею.
Царица дум его по ней
Чеканит мелкий след калошею.
Волнуяся, кадет идет,
В ее следы попасть старается.
А сердце в грудь всё громче бьет
И тихим счастьем озаряется.
«Я вспоминаю Вас такой прекрасной, стройной…»
Я вспоминаю Вас такой прекрасной, стройной,
И тайно мне милы и голос Ваш, и смех,
И теплота руки, и взор очей спокойный,
И легкой шапочки морозный, темный мех.
Три года протекли, как нам пришлось расстаться.
Не посещай меня, воспоминаний час!
От них проснется боль, и мысли омрачатся,
И горечь всё зальет… Я вспоминаю Вас.
«Зачем грустна она была…»
Зачем грустна она была
Тогда, в минуты упоенья,
Когда прекрасного чела
Еще не тронули мученья?
Зачем грустна она была?
Душа ее, влюбленная
Под чарами весны,
Увидела, смущенная,
Пугающие сны.
Зачем смеялася она
Тогда, в минуты расставанья,
Когда душа была больна
И пело в ней мольбы рыданье?
Зачем смеялася она?
Душа, что наполнялася
Страданьем через край,
С отчаянья смеялася,
Припомнив прежний рай.
ИКРА
(Якобы басня)
На масленице слышал я от друга:
«Не говорите никогда мне про икру,
А особливо — ввечеру.
Есть у меня к ней отвращенье, род недуга.
Черна, жирна,
Противна мне она,—
Ее я ненавижу.
Тот день, когда ее законом воспретят.
Всегда мне будет свят.
Лишь только я икру завижу,
Как в душу водворяется тоска,
И кажется, что жизнь пуста и нелегка,
Что скоро превращусь я в идиота
И что бесцельна вся моя работа.
Ах, не глядели б на икру мои глаза!
Но всё же иногда случайно взгляд наткнется,—
И тотчас же невольно навернется
Горячая слеза.
Ведь даже, верьте, так бывает,
Что сердце с болью замирает,
И я, печальный взор вперяя в потолок,
Мечтательно гляжу на ламповый крючок.
Да, так и знайте!
Коль я безвременно умру,
Причиной смерти называйте —
Икру».
«Что ж, ваш приятель,
Конечно, идиосинкразией страдал»,—
Быть может, так бы мне сказал
Догадливый читатель.
Но кстати ль?
Сомнительно. «Так он, должно быть, лицемер!
О, гнусной лжи разительный пример!
Как это скверно!»
Опять неверно.
«Но неужели он аскет?»
О, нет.
Вот ключ к разгадке излияний странных:
Приятель, что передо мной скорбел,
Ведет в большом издании отдел
Известий иностранных.
Теперь, наверно, моего знакомца
Поймет душа сатириконца.
Для прочих же могу добавить лишь одно:
Густое черное пятно,
На место вредное газеты заграничной
Наложенное к щедрости привычной
Решительною цензорской рукой,
Зовется образно «икрой».
ОСЕНЬЮ
Ветер гонит желтых листьев стаю.
Коля смотрит и сосет свой пальчик.
Я сижу в мечтах за чашкой чаю,
По чаинкам тоненьким гадаю:
Девочка родится или мальчик.
Не узнать — и бог с ним, не досада.
Всё равно, как ни гадай — ребенок.
Для меня и то уже отрада,
Что, пожалуй, нынче будет надо
Загодя порыться меж пеленок.
«Не сердись на меня, тихий друг…»
Не сердись на меня, тихий друг,
Не досадуй, прости, извини:
Слишком много порой жутких мук,
Слишком часты тяжелые дни.
Жизнь ко мне и всегда-то строга,
Но подчас с ней не сладишь никак —
Она жжет и теснит, как врага,
Бьет, как тяжкий железный кулак.
В эти дни я угрюм и суров,
Болен телом и болен душой,
И заплакать, пожалуй, готов
И махнуть безнадежно рукой.
В эти дни не гляди на меня, —
Много их, но не вечно они,
И найдется ж хоть искра огня,
Что согреет и в темные дни!
ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Из Я. Купалы
ЖНИВО
Созревших хлебов золотые посевы
За селами, там, где лесов рубежи,
Склонили колосья до самой межи
С призывным шептаньем: мои жнеи, где вы?
И жнеи сошлися. Направо, налево,
Срезая колосья налившейся ржи,
Задвигались быстро серпы, как ножи,
Под жнивные, старые вечно напевы.
Тоскливая древняя песня плывет
В колосьях склонившихся шепчущей нивы
И в пуще теряет свои переливы.
Плывет эта песня ко мне и зовет,
И в сердце, как звонкие косы, поет:
«Ты так же, брат, сеешь… а где твое жниво?»
«Для тебя, отчизна предков моих…»
Для тебя, отчизна предков моих,
Ничего не пожалею я на свете.
Я на целый мир воспел бы долы эти
И воздвиг дворцы на кладбищах твоих.
Рад бы я тебя душой согреть,
Солнце взять и звезд небесных, золотых
И венок оплести тебе из них,
Чтоб сияла ты в добытом цвете.
За тебя готов погибнуть я в бою
С той неправдою, что терпишь ты от бога
И от сына своего слепого.
За тебя свою я душу погублю
И за это лишь прошу тебя, молю:
Не гони меня от своего порога.
Из Т. Шевченко
А. О. КОЗАЧКОВСКОМУ
Давно всё это было. В школе
Я у дьячка — учил дьячок —
Стащу удачно пятачок
(Ведь был я чуть совсем не голый,
Такой оборвыш) да куплю
Листок бумаги и сошью
Красиво книжечку; крестами,
Узором завитков с цветами
Кругом листочки обведу
И списываю Сковороду
Иль там «Три царие с дарами»
Сам для себя… и в бурьяне,
Чтоб не увидел кто, запрячу
И там пою, а то и плачу.
И довелося снова мне
Под старость с книжками скрываться,
Писать украдкой да стараться
И петь и плакать в бурьяне, —
И тяжко плакать! Кто же знает,
За что господь меня карает?
В ученье, мучаясь, я рос,
В ученье поседеть пришлось,
И на ученье ж в гроб положат;
И это из-за пятака,
Что своровал я у дьячка…
Так вот как бог карать нас может.
Н. И. КОСТОМАРОВУ