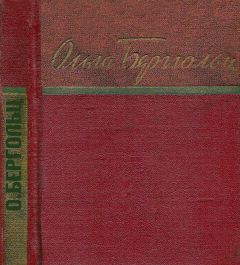Дмитрий Мережковский - Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая
1927
Париж
Три ангела
Три ангела предстали мне в ночи,
один — золотокрылый, свет нагорный,
другой — как лунный лик, а третий — черный,
и от него шли черные лучи.
И Первого узнав, пред ним поник
в испуге я: «Прости, что брел бесславным
путем под именем твоим державным».
Но не ответил мне Архистратиг.
Второй сказал, и голос пел, как медь:
«Ты не давал и не нарушил слова,
в моем огне не будешь ты гореть».
Он замолчал. Но я не знал Второго.
А Третий улыбнулся мне едва:
«Спасу тебя от радости и муки,
и жизнь твоя пройдет тиха, мертва,
и будет смерть, как легкий час разлуки…»
1929
Последнее
Спокойно разлитой туман
все бытие кругом завесил…
Но я не грустен и не весел,
я смертью подступившей пьян.
Как в радостно-блаженный миг
мое остановилось время, —
оно еще скользит за теми,
кто всех пределов не постиг.
Тщету и суетность и прах
изведав, не преодолею, —
в звериной жизни цепенею
и молча бьюсь в ее когтях.
Saint-Sulpice
[102]
Двойною каменною сетью
нагроможденных колоннад,
хвалой Людовиков столетью
взнес Сервадони[103] твой фасад.
На вознесенные ступени
всходил Король, бежал народ.
И гул толпы, и хор молений
под окрыленный плыли свод…
А нам, бессильным и неславным,
две башни в зареве утра
гласят двойным столпом неравным
О Massenet и Delacroix.
«Без сил, больной и Богу непокорный…»
Без сил, больной и Богу непокорный —
жить не умел и умереть не смею,
но медленно схожу на нет, уныло тлею
над тленом мертвых лет, над бездной черной.
За радостно-летучие мгновенья,
за грех гордыни — непосильной платой
я заплатил судьбе… и заплачу проклятой
ценой последнего уничтоженья.
1934
«Ты, Россия, дальняя, печальная…»
Ты, Россия, дальняя, печальная,
нелюбимая родная сторона!
Ты в душе — как заповедь прощальная,
памяти усталой ты верна.
По тебе ли к старости соскучился,
или прошлое вдали, как отчий дом,
— оттого, что в мире я намучился, —
расцветает в имени твоем?
Рабья поступь… Нож за голенищем…
Древнего орла тяжелокрылый лёт…
Бродит Лихо по селеньям нищим,
а в полях метелица метет.
1949
Париж
Василий Сумбатов
Два сувенира
Владимиру Смоленскому
Иссохший, легкий, с бронзовою кожей
Он мал и тверд, но это — апельсин.
В моем саду он рос и зрел один,
На золотое яблочко похожий.
Куст был покрыт цветами для невест —
Цветами подвенечного убора,
Но лишь один дал плод, — другие скоро
Осыпались, развеялись окрест.
Храню его, а он благоуханье
Свое хранит, свой горький аромат;
Встряхнешь его — в нем семена стучат
И будят о другом воспоминанье, —
И вижу я пасхальное яйцо,
Полвека пролежавшее в божнице
У няни, и мелькающие спицы
В ее руках, и доброе лицо.
— Со мной им похристосовался Гриша,
Мой суженый, — начнет она рассказ,
И снова я, уже не в первый раз,
О Грише, женихе погибшем, слышу.
Война, набор, жених уйдет в поход
И никогда к невесте не вернется…
Тут няня вдруг вздохнет и улыбнется
И, взяв яйцо, над ухом мне встряхнет.
В сухом яйце постукивает что-то.
— Кто в нем живет? — спрошу я, чуть дыша,
И няня скажет: — Гришина душа! —
И вновь яйцо положит у киота.
«Пушинку с семенем в окно…»
Пушинку с семенем в окно
Трамвая бросил резвый ветер,
И я один ее заметил
И спас от гибели зерно.
В горшок, где лилия всходила,
Я посадил его потом
И скоро позабыл о нем, —
Не до цветов мне как-то было.
Но после я грустил, узнав,
Что лилий заглушил отростки —
Зерном рожденный — серый, жесткий
Крепыш-плебей из сорных трав.
Есть в мире чья-то воля злая, —
Зло под добром укрыто в ней, —
И часто губим мы друзей,
Врагов от гибели спасая.
«В костре заката тлеют головни…»
В костре заката тлеют головни, —
Их не покрыл еще вечерний сизый пепел.
Еще не блещут звездные огни,
И месяц молодой из речки не пил,
Но уж не ярче, а темней небес
На сельской колокольне крест.
Смывает вечер яркие мазки
С картины дня росою холодящей…
Час непонятной сладостной тоски, —
О чем — Бог весть! О жизни уходящей?
Иль о нездешней жизни, о иной, —
Где крылья у меня сияли за спиной?..
«Легко сказать: Бодрись!..»
Легко сказать: Бодрись!
Легко сказать: Забудь!
А если круто вниз
Сорвался жизни путь?
А если я — изгой?
А если я — один?
А если я грозой
Снесен с родных вершин?
Ведь нет подняться сил,
Ведь сломано крыло,
Ведь я не позабыл,
Как наверху светло!
«Гиперборей»
Ахматова, Иванов, Мандельштам, —
Забытая тетрадь «Гиперборея»[104] —
Приют прохожим молодым стихам —
Счастливых лет счастливая затея.
Сегодня я извлек ее со дна
Запущенного старого архива.
Иль сорок лет — еще не старина?
И уцелеть средь них — совсем не диво?
«Октябрь. Тетрадь восьмая. Девятьсот
Тринадцатого года»… Год заката,
Последний светлый беззаботный год.
Потом — не жизнь, — расправа и расплата.
Тетрадь — свидетель золотой поры,
Страницы, ускользнувшие от Леты.
Раскрыл, читаю, а глаза мокры, —
Как молоды стихи, как молоды поэты!
И как я стар! Как зря прошли года!
Как впереди темно, и как пустынно сзади!
Как жутко знать, что от меня следа
Никто не встретит ни в какой тетради.
Мост вздохов
Как мрачен в кровавом закате
Тяжелый тюремный карниз!
Мост вздохов[105], молитв и проклятий
Над черным каналом повис.
Налево — дворец лучезарный,
Ряды раззолоченных зал, —
В них где-то таился коварный
Всесильный паук — Трибунал;
Под крышей свинцовой направо —
Ряд каменных узких мешков…
От блеска, почета и славы
До гибели — двадцать шагов.
Равенна
I. «Давно столица экзархата…»
Давно столица экзархата
Уездным стала городком;
Над ней — закат, но нет заката
Воспоминаньям о былом,
И неувядший блеск мозаик
Сквозь муть пятнадцати веков, —
Как взлет вечерний птичьих стаек, —
Все так же древен, так же нов.
В мозаиках — все неизменно, —
Жизнь застеклилась на стенах, —
И видит старая Равенна
Былое, как в зеркальных снах.
И в те же сны с благоговеньем
Здесь в храмах я вперяю взгляд,
И византийские виденья
Со мной о прошлом говорят.
II. «Закат снижается, бледнея…»
Закат снижается, бледнея,
Вдоль стен кудрявится акант,
Вхожу под купол мавзолея,
Где погребен бессмертный Дант.
Внутри над ветхими венками
Звучит стихами тишина,
И так же здесь душа, как в храме,
Благоговения полна, —
Здесь веет славою нетленной,
Перед которой время — прах,
Здесь вечность грезит вдохновенно,
Заснув у Данта на руках[106].
Рим в снегу