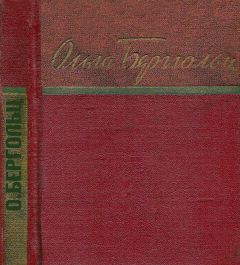Дмитрий Мережковский - Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая
Николай Белоцветов
«С тем горьковатым и сухим…»
С тем горьковатым и сухим,
Тревожащим истомой темной,
Что расстилается, как дым,
Витая над моей огромной,
Моей покинутой страной
С протяжной песней сиротливой,
В седую стужу, в лютый зной
Перекликаясь с черной нивой,
С тем, что рыдает, как Орфей,
О Эвридике вспоминая,
С тем ветром родины моей
Лети, печаль моя ночная.
«Распахнутого, звездного алькова…»
Распахнутого, звездного алькова
Широкий взмах. Как призрачно лучи
Расходятся. Как мечется свечи
Немой язык в тревоге бестолковой.
Такого задыхания, такого
Томления!.. Трещат дрова в печи.
Кривится месяц, брошенный в ночи, —
Пегасом оброненная подкова.
Возьмем ее на счастье. Может быть,
Когда ее повесим мы над ложем, —
Так иногда и мертвых мы тревожим —
Да, может быть, удастся позабыть
То черное слепое средоточье.
И минет ночь. И минем вместе с ночью.
«Кадила дым и саван гробовой…»
Кадила дым и саван гробовой,
Наброшенный на труп окоченелый
Земли-Праматери моей, и вздохи
Метели-плакальщицы над усопшей,
И каждый вечер со свечой своей,
Уж оплывающей и чуть дрожащей,
Читает месяц, как дьячок смиренный,
Над отошедшей Матерью молитвы.
Обряда погребального никак
Не заглушить рыданием надгробным.
О, если б мог я полог приподнять
И ухом к сердцу Матери прижаться,
То я бы понял, с ней соединившись,
Что для нее я — только краткий сон,
Воспоминанье образов минувших.
Читая звезд немые письмена,
Припомнила меня, и я родился
В ее душе, и так как по складам
Она меня читает, развернулся
Во времени судеб неясный свиток,
И вот живу, пока судьбу мою
Она в слова бессвязные слагает.
А прочитает их, и я умру,
И в тот же миг бесплотным стану духом
В эфире горнем, в тверди безграничной.
Такие думы посещают ум,
Когда блуждаю, маленький и слабый,
В дни Рождества по неподвижным дланям
Праматери усопшей и смотрю,
Как тощий месяц бодрствует над телом,
Качая оплывающей свечой.
«В твоем краю голодных много мест…»
В твоем краю голодных много мест
И много рук протянуто за хлебом,
Но убаюкан бездыханным небом
Монахинь-мельниц сухорукий крест.
Такой же крест в душе твоей просторной.
Небесный ветр ворочает его,
Весь день поет, размалывая зерна.
Но им не надо хлеба твоего.
«То был высокий род, прекрасный и державный…»
То был высокий род, прекрасный и державный.
То был сладчайший плод. То был тишайший сад.
То было так давно. То было так недавно.
Как мог ты позабыть и не взглянуть назад!
Когда и зверь лесной те зори вспоминает,
Когда в любом цветке призыв молящих рук.
А судорога гор! Их сумрачный недуг!
Не вся ль земная тварь и страждет, и стенает!
Но ты, ты позабыл ту горестную тень,
Тень праотцев твоих, и грозный час расплаты,
И первый темный стыд, и первые раскаты
Карающих громов, и первый серый день!
«Как жемчуг, в уксус брошенный, мгновенно…»
Как жемчуг, в уксус брошенный, мгновенно
И навсегда растаю, растворюсь
В твоих просторах, край мой незабвенный,
Злосчастная, истерзанная Русь!
Шепча твое поруганное имя,
Развеюсь я в тоске твоей, как дым.
О, родина немая, научи мя
Небесным оправданием твоим!..
«Из опротивевшей норы…»
Из опротивевшей норы,
Вдыхая едкий запах гари,
Сквозь дождь, туманы и пары,
Чтоб где-нибудь в укромном баре…
И на рассвете… А потом
У опустевших ресторанов,
Ища растерзанный свой дом
И неожиданно воспрянув,
В испуге крикнув: — О, приди!..
О, Эвридика!.. И кромешный
Увидев сумрак впереди,
Понуро, горько, безутешно,
Забыв достоинство и стыд,
Столичным девкам на потеху,
Не помня слов, не слыша смеху,
Петушьим голосом навзрыд…
Михаил Форштетер
Жизнь
Шум города и шум дождя слились
в бормочущий во мраке бег.
Проходит жизнь. Прошла. Молчи, смирись.
Ни воротить, ни изменить вовек.
Кроватка. Няня. Пение волчка.
Вечерний запах ламп и шум подков,
и колокольный гул издалека,
и милый шелест маминых шагов.
Зима. Слепой московский небосвод,
ученых дней постыло-ровный ряд…
Полки в далекий тянутся поход,
и марши заунывные томят.
Сверкание гремящих поездов,
как счастье невозможное, зовет.
Над башнями немецких городов
заря пернатым облаком цветет.
Жасмина звездно-сладостный дурман,
и незнакомой девушки ответ.
В полдневном парке плещущий фонтан
поет: быть может — да, быть может — нет.
Прага
Свет обреченный, день печальный…
О, жизни предрешенный лёт!
И город, как фрегат хрустальный,
в лазури огненной плывет.
Тысячебашенный и старый,
приют безумных королей
и колдунов, творящих чары
средь залитых луной полей!
Грехам и наважденьям тайным
прикосновенен темный рок:
перед тобою не случайным
ловцом в овраге я залег.
И злым и радостно-крылатым
я стал в тугом твоем кругу.
Хранимый ангелом проклятым,
тебя тревожно стерегу.
Недвижна мраморная точность
потусторонней красоты,
и только нежная порочность
живит бездумные черты.
«Как встарь, размеренный и точный…»
Как встарь, размеренный и точный,
он в черный свой замкнется круг,
когда ударит бой полночный —
уйдет, как в сеть свою паук.
Вот мертвого повисли нити,
да паутина уж не та!
Дорога пройденных наитий —
как спутанная пустота.
Но только в час свободы мнимой
дотронешься до сети — вмиг
в свой черный круг нерасторжимый
тебя затянет крестовик.
Не разорвать позорной сети!
Паук окрутит, припадет, —
лишь кругом оплетенный этим
ты переступишь в Новый год.
1923
Париж
Россия
Из года в год мой переход печальней,
в глухой степи змеею колея…
Страны моей безрадостной и дальней,
страны моей забыть не в силах я.
Как будто сон, тяжелый сон дурманный,
меня тугой объемлет пеленой,
и вьется снег, и путь уходит санный
в темь зимнюю, в простор Москвы ночной.
Холодный ветер хлещет по заставам
(ему легко врываться в темноту), —
возница дряхлый в армяке дырявом
уж миновал заветную черту.
Едва ползет нагруженная кляча.
Все гуще темь, да и мороз острей.
Над рыхлыми сугробами маяча,
желтеют пятна редких фонарей.
Нависла мгла, и переулки глухи.
Мертво кругом, ни звука, ни огня…
А далеко в плену у злой старухи
моя подруга тихо ждет меня.
Как в первый день благословенной встречи,
ее глаза — сиянье летних гроз, —
нежней весны чело, уста и плечи
под медным золотом ее волос.
Подъеду к дому, постучусь тревожно
едва-едва в ворота… Ты сойдешь
и, двери отворяя осторожно,
прошепчешь: «Знала, милый, что придешь».
Скользнем, как тени, вдоль пустого зала
и притаимся в нише у окна.
За ним — фонарь, мигающий устало…
И улица туманная видна.
Тогда во мгле метельной и слепящей
далеким звоном трубы пропоют,
и тяжело проснется город спящий,
и мертвецы по городу бредут.
В худых обносках, грузны и неловки,
нестройной чередой землистых рот,
покорно волоча свои винтовки,
они в последний двинулись поход.
И тянутся к вокзалам окаянным,
где ждет их поездов чугунный ряд,
где голосом придушенным и странным
сирены паровозные вопят.
И снова снег запорошит панели,
кружась в луче фонарного огня…
Тогда пройдет еще один в шинели
по мостовой, чуть шпорами звеня.
В седой папахе, теребя бородку
(из-под тяжелых век не видно глаз),
покойный Царь усталою походкой
пройдет по переулку мимо нас.
Он скроется во мгле у перекрестка,
и станет вновь недвижной тишина…
И только снег, сверкающий и жесткий,
вновь поплывет за синевой окна.
1927