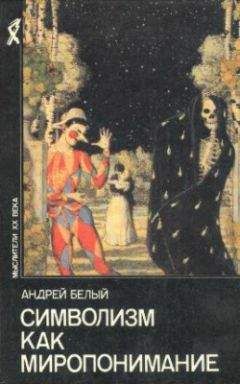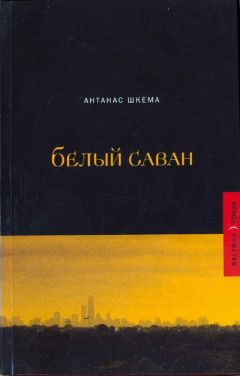Эйс Криге - Бесприютное сердце (сборник)
но при этом объятий войны и лобзания пули - стократ огнепальней.
Заперты двери барака. И в щели меж досками,
и сквозь решетку окна с перебитыми стеклами
вязкий вползает туман, оседая на наши тела.
Пол из цемента. Тепла никакого, а печки - подавно.
Лишь нары вдоль стен в два ряда, - и, в тяжкое
оцепененье впадая, мы мерзнем, и мгла безнадежно
нависла над нами седая,
недвижная мгла;
тихо, ни звука. Налеты, десанты, посадки в пустыне,
пропавшие без вести или в воздушном бою,
героический риск, перед гибелью - страх,
отвращение - перед убийством, - все это
припомнено множество раз, мы лежим до рассвета
от холода, каждый раздельно страдая,
бабки подбиты, и чувства сгорели дотла.
Все разговоры исчерпаны. Тайные слезы иссякли
за явными вслед. Отсмеялись, отссорились,
отненавидели и отдружили, отгневались,
отвспоминали о прошлом, - в душе все доскоблено
до глубины
в мире этом,
мертвом, затерянном мире, где мы позабыты,
где каждый упрятан в свой собственный ад
и из собственной памяти изгнан, и выслан
безжалостно сам из себя, - здесь, где даже и сны
под запретом.
LA NEBBIA
Снова берется туман за свое: начинает душить все,
что есть, - неживое, живое, ползет, упиваясь
добычей,
вверх по стволу низкорослого дерева, что притулилось
в тюремном дворе, по чернеющим сучьям,
глотая все зримое, все без различий,
льнет к воробью, что нахохлился в мокрой развилке:
здесь, в мире раскисшего снега, давно
раззнакомился взор человечий с породою
птичьей,
мокнет воробышек, перья топорщит, пытаясь
согреться, глазенками мелко мигает и даже
чирикнуть боится, - как видно, во время
туманов таков воробьиный обычай.
Все растворяется, все утопает, и горного кряжа
не видно, и пленные сами уже утопают в тумане,
нет ни снежинок, ни льдистых обломков, подобных
биению света в фонтане, ворсинок тончайшего
инея нет, прихотливой и мастерской
их филиграни;
пользуясь полным отсутствием кровель, себе
углубленье уютное вырыв,
звуки глотая, сползает туман и стирает стишки,
зазыванья, рисунки, похабные надписи
с внутренних стенок сортиров;
вот уж и сами сортиры неспешно туман заглотал;
каждый занюханный угол, в котором в погоду
нормальную можно укрыться хотя ненадолго
тому, кто бродяжить устал,
словом, совсем ничего - ни доски, ни бадьи,
все - в забытьи,
и нигде - ни движенья,
все замотал и укутал надолго туман, жизнь
отложена прочь, словно тягостный флаг
пораженья,
здесь ничто не способно - ни слово, ни звук
до звучания полного вырасти,
здесь на старой брусчатке малейшего шороха
даже не слышно средь тягостной сырости.
Все ушло, все ушло... Красота и уродство. Здесь
каждый предмет обездвижен, вконец обессилен...
Здесь одно пресмыканье, царапанье, ползанье
длится и длится, - и это скитаются клочья тумана
в мозгу, в черноте глубочайших извилин.
ДАЛЬНИЙ ВИД
На голой вершине
всадник на пони верхом.
Неподвижные, словно из камня,
всадник, пони и холм.
Пропасти, пики, уступы,
щели ущелий, в которых
тихие шелесты гор
и серебряный шорох
ручьев далеких.
Одинокий день умирает в ветвях одиноких.
Месяц с рожками белой импалы
над горизонтом возник.
Но там еще день... О светлый мир,
сколько покоя! Каждый пик
дворец тишины золотой,
тихие призраки белых селений;
о жар небесный, о блеск святой
над этим далеким миром света и сновидений.
О люди, о племя мое! Вопреки всему
не ослабните сердцем и чашу испейте до дна.
свободными будьте и смело шагайте сквозь тьму,
как эта далекая, полная света страна!
Концлагерь Фонте д'Аморе, Италия,
июль 1942 года
ЗАХВАТ ВЫСОТКИ
"Нет ни ран, ни контузий, - сказал он, - обычная
дизентерия". Неужто рисуется? - думаешь ты.
А иначе зачем же рассказывать все эти жуткие
вещи?
Он сидел на краю одеяла и, ноги босые спустивши
с кровати, в одном лишь больничном белье,
залюбуешься: юное тело, поджарое, цвета
гранатовой шкурки, притом с золотистым
оттенком,
и по мускулам, словно играя, скользила волна,
так же утренней ранью прилив набегает на топкую
мель
(это парень закидывал ногу одну на другую).
Он с охотой о смерти полковника нам доложил
и о смерти майора:
"Нет, полковник под пули не лез, вероятно - шальная.
А может быть, снайпер, не знаю.
Прямо в лоб, в серединку. Такая совсем аккуратная
круглая дырка, размером примерно с трехпенсовик.
Так и упал, как подкошенный, хлоп, и каюк.
Ну, а дальше пришлось нас майору вести
по открытому месту: пройти от оврага к высотке,
он шагал далеко впереди, по нему и прицелились
больно мишень хороша, застрочил пулемет
из лощины, и так застрочил, что его рассекло
пополам, он упал, но скомандовать все же успел:
"Стоп! Стоять где стоите! Не смейте ко мне
подходить, остолопы! Вон там пулемет
на уступке, пониже - второй, может быть,
там и два... Подтянуть миномет! Остальные
в укрытие, живо!.."
Попытался еще приподняться, в конвульсиях тут же
задергался и захлебнулся в крови.
Вот уж был человек, настоящий солдат, вот что
прежняя значит закалка!"
Дотянувшись до спичек, он взял сигарету, размял,
прикурил и продолжил:
"Словом, десять минут или больше чуть-чуть
миновало, и вот на высотке нашли мы не то
чтобы просто блиндаж,
а скорее - нору, и внутри на соломе - ну, просто
потеха, ну, прямо клопы на ковре, - макаронники
дрыхли, их трое там было...
По бокам - молодые, небритые эдак с неделю,
а тот, что лежал посредине, и вовсе щетиной
зарос - это все, что успел я заметить..."
Он как будто закончил рассказ, шевельнулся,
и волосы легкою русой волной опустились
ему на лицо,
и сквозь пряди случайно поймал я скользящие
отблески глаз голубых
и припомнил: когда начинается лето,
так сверкают лазурные лужи в кустарниках желтых,
что в лощинах растут мыса Доброй Надежды.
"Я приткнул их штыком, одного за другим,
потихонечку так, тык под сердце, и делу конец,
тут ведь главное ткнуть в надлежащее место,
никто и не пикнул..."
Нет, ни крохи садизма, ни гордости зверской,
ни жажды кровавой, ни злобы, ни гордости,
ни ликованья,
никаких выдающихся чувств не звучало в рассказе его.
Повествует, казалось, он скажем, о матче по регби,
что не очень-то был интересен ему
и в котором он даже не знал, за кого и болеть-то.
И, взглянувши в глаза ему,
снова я был поражен
их громадностью, их чистотой, синевой
о, как молоды были они, как невинны.
Аддис-Абеба, 1941, май
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
Здесь, на земле, зла никому не желая,
тварь лишь одну из тварей истребил бы дотла я:
карикатура на бабочку, глупая шутка, выходка злая.
Вот появилась... Снова исчезла... Канула в тишь...
Кажется, вот она... Нет, улетела, шалишь!
Нежить рыскучая, мерзость липучая эта летучая, эта летучая мышь!
Вот она - в небе: вырвалась в мир из-под спуда.
Звезды глотает, падает резко, сердцу становится худо.
Где ты? Куда исчезаешь? Снова приходишь - откуда?
Мечешься в воздухе, тронуть лицо норовишь
липкой рукой мертвеца - кыш ты, проклятая, кыш!
Вновь исчезаешь... Вновь по соседству шуршишь...
И - неожиданно - прямо в затылок толчок.
Будто шуршит без канифоли смычок,
ужас крылатый, черная тень, ловящая душу на страх, на блесну,
на крючок!
Тонкие черные серпиком крылья расправив свои,
черная в черном, сажи чернее, угля и полночной, свернувшейся
в кольца, змеи
кружится, кружится, кружится, как в забытьи.
Словно кирзовый сапог по дресве, ты скрипишь:
"Ишь! Улетишь!.." - или как-то иначе, но слышишь
это чертово: "Ишь!.."
Что ты рыдаешь, о чем ты томишься, летучая мышь?
Тварь ли ты Божья из перьев и крови и плоти и кости?
Или мерещишься мне от усталости, ужаса, злости?
Или же прах ты, что места себе не сумел отыскать на погосте?
Голос твой, голос... ну хоть о нем-то, поэт, помолчи!
Кружишься - в тоже кружащейся черной ночи,
Божья ошибка, замолкни же ты, не скрипи же, не бормочи!
Словно лишенная права к Богу явиться с повинной,
не обладаешь ты мудростью темной, совиной,
ни весеннею песнью, серебряной, соловьиной,
время твое - только ночь, оно же - твоя тюрьма.
Как в тенях зарождается золото - ты никогда не увидишь сама,
никогда над тобой не займется заря, не растает тебя оковавшая тьма.
Может быть, с ночью ты просто в родстве состоишь?
Или же Ночь - невзирая на Южный Крест, невзирая на все - это лишь,
лишь исполинская, чуждая людям летучая черная мышь?