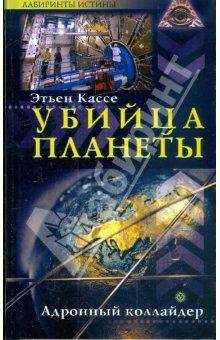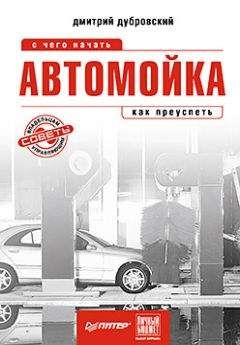Валентин Парнах - Испанские и португальские поэты - жертвы инквизиции
Сожженные инквизицией за то, что они открыто отреклись от католичества, эти марраны сравниваются авторами «Славословий» с Фениксом[75], Саламандрой[76], Атласом[77], пророком Илией, Самсоном и другими образами греческой и еврейской древности. Библейские элементы сочетаются с мифологическими и испанскими. Феникс, воскресающий из пепла, — излюбленный символ испанских и португальских поэтов, — появится снова и снова, олицетворяя человека, умирающего и возрождающегося в любви.
В сонете Антонио Жозэ да Сильва, португальского маррана, удушенного и сожженного инквизицией в Лиссабоне в 1739 году, этот феникс выступает опять:
Итак, я мертв и жив, живой мертвец.
Из пепла Фениксом встаю живой.
Сгораю мотыльком в огне, мертвец.
Сведующие в греческой мифологии, библии и каббале, авторы «Славословий» раньше всего преданно следуют традициям испанской поэзии. Они противопоставляют жизнь, пребывающую в смерти, — смерти, живущей в жизни.
Единение жизни и смерти обнаруживается и в стихах Самуэля де Красто, посвященных памяти Альмейда Берналя.
Одно из его четверостиший служит вступлением к длинному стихотворению Ионы Абарбанеля[78], в котором каждое десятистишие заканчивается одной из четырех строк Красто. Абарбанель начинает следующими стихами:
Простертый в черной темнице,
В этом аду для живых.
Поэты-марраны выработали особую метафорическую и мелодраматическую терминологию для всех элементов этой трагедии. Инквизитор упоминается под именем Плутонова служителя, католики прозваны идолопоклонниками, испанцы — идумеями, испанский фанатизм — идумейским бредом и жестокой гордыней Немврода. Как известно, протестанты называли Рим Вавилоном и давали католикам названия в том же роде.
Хотя Баррьос не принимал участия в сборнике этих «Славословий», он сочинил множество других панегириков. Один сонет он посвятил «Доблестной твердости Томаса Требиньо де Собремонте[79](alias Исхака Израэля), родом из Руисеко, после четырнадцатилетнего тюремного заключения претерпевшего огненную смерть в городе Мексико», другой сонет — казни Диэго де Асенсьон[80], заживо сожженного в Лиссабоне. Кроме того, Баррьос сложил панегирики в честь Авраама Атиаса, Иакова Родригеса Касареса и Ракэли Нуньес Фернандес, заживо сожженных в Кордове в 1655 г. (Ракэли он посвятил два длинных стихотворения). В своих стихах он упоминает в числе казненных еще Тамару Баррокас, заживо сожженную в Лиссабоне, Исхака де Кастро Тартаса, заживо сожженного в Лиссабоне в 1647 г., двух Берналей и других.
Этому потоку религиозных стихотворений мы противопоставляем прекрасный стих Альфреда де Виньи[81]:
Вздыхать, стонать, молить —
равно есть малодушье![82]
Приходится пожалеть, что в эпоху религиозных войн, когда под пытками погибали гугеноты и мориски, — авторы «Славословий», культурные и одаренные люди вынуждены были противопоставить фанатизму инквизиторов другой фанатизм, чуждый нашему времени.
Но остается фактом: в своем сопротивлении полицейской церкви некоторые марраны имели силу отказаться от жизни.
XVI
Конечно, надо «свернуть шею красноречию»[83] этих писателей. К счастью, в некоторых стихах есть и нечто другое: это подлинная тюрьма. Порожденные инквизицией, некоторые образцы этой поэзии звучат сильно (замки и засовы лязгают в октавах Авраама Кастаньо и И. Аба[84]).
За несколько десятков лет до появления «Славословий» другой враг инквизиции произнес огненные слова. Гугенот Агриппа д’Обинье сложил свои «Трагические поэмы». Казни протестантов во Франции и в Англии, в подробностях описанные Агриппой, не отличаются от казней марранов.
Наказания и муки ада, которыми поэт грозит инквизиторам, задуманы в дантовском вкусе.
Ты, Белломонт, воздвиг свой ад, жаровни жег.
Твоя игра — процесс, и твой дворец — острог.
Застенок — кабинет, веселия — геенны.
Во мраке погребов, где извивался пленный,
Любуясь пыткой, ты пред жертвой ел и пил.
Из этой камеры ты шагу не ступил.
День поздно рассветал, ночь рано приходила,
Казалось палачу. Кончина утолила
Его желание медлительно пытать.
Суровая, она является как тать.
И огнь к его ступне подходит в наказанье.
Бесчувственный к слезам, сам чувствует страданье.
Он молит об одном: чтоб огнь, жестокий змей.
От ног до сердца путь закончил поскорей.
Сей путь медлительней работы трибунала.
И огненная смерть все члены покарала.
Убийств желавший, сам неспешно умерщвлен,
Сожжений жаждавший, сам медленно сожжен.
За тот же грех пришел такой же час расплаты.
Огнем пылал Поншэр, вождь Огненной палаты[85].
Отмщение дымит горящей головней.
Изобретательно, меж сердцем и ступней,
Смерть строит семь жилищ, ведет свою осаду.
Окопы роет в нем, и вот предстали взгляду
Куски и части ног, семь диких крепостей.
Мучитель претерпел семь огненных смертей.
Епископ Шателэн, под холодом почтенным
Скрывал дух бешеный, в пыланьи неизменном.
Без гнева он пытал огнем, зубцами пил.
Он десять тысяч жертв бесстрастно умертвил.
Смиренный на словах, гордец с лицом тихони
Судил перед костром, жрец хладных беззаконий.
Полтела у него обледенело льдом.
Полтела у него обуглено костром.
Суда и мщения суровые скрижали,
Погрязшим в мерзости вы, наконец, предстали.
Кресценций Кардинал![86]чернее всех угроз,
Казалось, за тобой шел погребальный пес.
Его прогнать нельзя. Его узнал ты скоро.
В твоей душе, во дни Тридентского Собора[87],
Он лаял бешено. Пес, черный демон твой.
Тебе неведомый, с лукавою душой,
Пес возвестил тебе час казни неизбежной.
И вот недуг в тебе открылся безнадежный.
С тех пор не покидал тебя тот пес лихой.
Недуг стал смертью, смерть — отчаянной тоской.
Отзвуки Ювенала[88], Данта и библейских пророков раздаются в «Трагических поэмах» Агриппы. Они повторяются в испанских «Славословиях».
Не без однообразия, некоторые стихи звенят, как цепи. Тюрьмы, темницы, застенки, подземелья, трибуналы, пытки и казни составляют длинную вереницу мучений в дантовской панораме, которую открывает нам Агриппа. Тюрьмы, дыбы, костры появляются в испанских, португальских и латинских стихах марранов.
Так, задушенные и заживо сожженные, друзья и родственники воспеваются в славословиях, одах, панегириках и элегиях оставшимися в живых.
Заключенные в тюрьму, подвергнутые пыткам, вынужденные бежать, некоторые поэты едва не погибли сами. Новые Лазари, они выходят из гроба и возвращаются к жизни. Но в каком виде!
Не узнаю себя сам.
Глядясь в мои отраженья,
говорит Давид Абенатар Мэло, чудом выйдя из подземелий инквизиции.
В этом веке в Испании, как припев, раздается четверостишие из знаменитой кальдероновской драмы «Жизнь есть сон»:
Эта глушь, где всем конец,[89]
Где в печали гробовой
Я живу, скелет живой,
Я дышу, живой мертвец,[91]
Душевное напряжение этого времени слишком велико, чтобы не разрядиться крупным событием. В этот век, когда люди всех исповеданий так легко верят в своих богов и умирают за них, некий восторженный юноша, Саббатай Цеви, объявляет себя «Мессией». Этот смирниот, обладавший, по словам историков, необыкновенным очарованием и слагавший еврейско-испанские песнопения, выпускает манифест, в котором обещает всем евреям освобождение от страданий. Он уничтожает посты. «Возрадуйтесь!» — приказывает он. И вот общие пляски, празднества, пиры, оргии охватывают Голландию, Турцию, Египет, Италию, Германию, Марокко. Наступает апокалиптический год: христиане тоже начинают верить в близость невероятных событий и в приход сверхчеловеческого существа. Сам Спиноза интересуется саббатеянством.