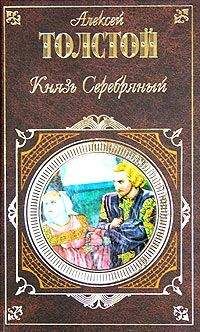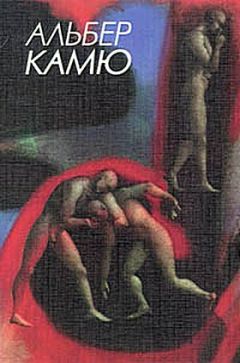Евгений Евтушенко - Окно выходит в белые деревья...
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
Р. Рождественскому
Кто были мы,
шестидесятники?
На гребне вала пенного
в двадцатом веке,
как десантники
из двадцать первого.
И мы без лестниц
и без робости
на штурм отчаянно полезли,
вернув отобранный при обыске
хрустальный башмачок поэзии.
Давая звонкие пощечины,
чтобы не дрых он,
современнику,
мы прорубили зарешеченное
окно в Европу и Америку.
Мы для кого-то были модными,
кого-то славой мы обидели,
но вас мы сделали свободными,
завистливые оскорбители.
Пугали наши вкусы,
склонности
и что мы слишком забываемся,
а мы не умерли от скромности
и умирать не собираемся.
Пускай шипят, что мы бездарные,
продажные и лицемерные,
но все равно мы легендарные,
оплеванные,
но бессмертные!
P.S. Когда Роберт Рождественский, с которым у меня были сложные отношения, заболел, мы сдружились снова, и я посвятил Роберту эти стихи, успев прочитать их ему.
«Все больше, больше моей маме лет…»
Все больше, больше моей маме лет.
Все реже поднимается чуть свет
на шорох свежевыпавших газет,
в которых утешений нет и нет.
Все горше каждый воздуха глоток,
все скользче пол, опасный, как ледок,
все тяжелей, нечаянно жесток,
обнявший плечи легонький платок.
Когда она по улице бредет,
снег осторожно, бережно идет,
и дождь ей боты лижет, как щенок,
и ветер сбить ее боится с ног.
В нелегкие такие времена
все легче, легче делалась она,
и страшно мне, что может кто-нибудь,
как перышко, ее с России сдуть.
Как мне испить живой воды тогда
из маминого слабого следа?
Любимая, прошу тебя, — сумей
стать хоть немного матерью моей.
НАПУТСТВИЕ
М. Кацу
Надо собственные ноги
донашивать,
и дорогу у дороги
не спрашивать.
Пусть сама дорога спросит,
как ей выгнуться,
нас полюбит и не бросит,
даст нам выбраться.
Все пророки — лжепророки,
но в безбожии,
наши женщины — дороги
в бездорожии.
Пусть судьба им не отплатит
ни морщиночкой
и не капнет им на платья
ни борщиночкой.
Надо так любить любимых
и детей своих,
чтоб злодеям стыдно было
в их злодействиях.
Каждый носит сам дорогу
в своей совести.
То ли к власти, то ли к Богу —
выбор собственный.
И еще одна забота
пусть прибавится —
стать дорогой для кого-то
не предательской.
Быть своим там, где дубравы
и поля тихи,
и подальше быть от славы
и политики.
И у гроба на погосте
с речью длинною
не сползти к могиле в гости
вместе с глиною.
Перед смертью не метаться.
С ней условиться
и навек в живых остаться,
как пословица.
МЫ — «СТАРЫЕ РУССКИЕ»
Э. Колмановскому
Мы — «старые русские»,
наивно погрязшие в частностях,
в честностях.
Хребты наши хрустнули
у новеньких русских на челюстях.
Понятие «взятка»
для нас,
почитателей ямба с хореем,
как зоологическая загадка,
ни брать, ни давать
до смешного никак не умеем.
Название «мафия»
для нас —
это что-то из фильма «Под небом Сицилии»,
хотя автоматами парни помахивают
в клифтах от Армани,
но в пятнах от нашенского «сациви».
Звенит, как забытое, детское,
у нас «Бригантина» в сердцах,
в сокровенной середочке.
Мы старосоветские
помещички кухонек тех,
где окурки в селедочке.
Все купчики-ухари,
вся неблагодарная шатия-братия
забыли о том,
что рождалась в тех кухоньках
их всех, к сожаленью, потом породившая демократия.
И ненастоящая
свобода, пошлее накрашенной куколки,
как девка гулящая,
всю интеллигенцию
вновь запихнула на кухоньки
Мы старцы,
старушки
лишь с первого взгляда…
Мы — в тайном расцвете и силе.
Мы «старые русские»,
но знайте —
без нас не получится новой России.
НА СМЕРТЬ ГРУЗИНСКОГО ДРУГА
Джумберу Беташвили
Я друга потерял, а вы мне о стране.
Я друга потерял, а вы мне о народе.
На черта мне страна, где лишь цена в цене,
на черта мне народ, где рабство и в свободе.
Я друга потерял и потерялся сам.
Мы потеряли то, что больше государства.
Нам нелегко теперь найтись по голосам.
То выстрел за углом, то вой ракет раздастся.
Я был немножко им, он был немножко мной.
Его не продал я, и он меня не продал.
Страна — друг не всегда. Он был моей страной.
Народ — неверный друг. Он был моим народом.
Я русский. Он грузин. Кавказ теперь — как морг.
Идет людей с людьми бессмысленная битва.
И если мертв мой друг, народ мой тоже мертв,
и если он убит — страна моя убита.
Не склеить нам страну, что выпала из рук.
Но даже в груде тел, зарытых без надгробья,
друг никогда не мертв. Он потому и друг.
И ставить крест нельзя на друге и народе.
«Я люблю тебя больше природы…»
Маше
Я люблю тебя больше природы,
ибо ты как природа сама.
Я люблю тебя больше свободы —
без тебя и свобода — тюрьма.
Я люблю тебя неосторожно,
словно пропасть, а не колею.
Я люблю тебя больше, чем можно —
больше, чем невозможно, люблю.
Я люблю безоглядно, бессрочно,
даже пьянствуя, даже грубя,
и уж больше себя — это точно! —
даже больше, чем просто тебя.
Я люблю тебя больше Шекспира,
больше всей на земле красоты, —
даже больше всей музыки мира,
ибо книга и музыка — ты.
Я люблю тебя больше, чем славу,
даже в будущие времена,
чем заржавленную державу,
ибо Родина — ты, не она.
Ты несчастна? Ты просишь участья?
Бога просьбами ты не гневи.
Я люблю тебя больше счастья.
Я люблю тебя больше любви.
«Церковь должна быть намоленной…»
Ирине Химушиной
Церковь должна быть намоленной,
только такой, где болит
воздух от скорби немолвленой,
от молчаливых молитв.
Дому идет быть надышанным
уймой детей и гостей.
Слову быть надо услышанным
даже с голгофских гвоздей.
Ну а любви полагается
не постареть, не устать,
ну а когда поломается,
ненавистью не стать…
«Само упало яблоко с небес…»
Само упало яблоко с небес
или в траву его подбросил бес?
А может, ангел сбил крылом с ветвей
или столкнул руладой соловей?
Ударился о землю нежный бок,
и брызнул из него шипящий сок,
прося меня: «Скорее подбери…» —
чуть зазвенели зернышки внутри.
Светясь, лежало яблоко в росе,
и не хотело быть оно, как все,
и отдыхало телом и душой,
как малая планета на большой.
А в трещину его, ничуть не зла,
оса так вожделеюще вползла,
и, яблоко качая на весу,
с ним вместе внес я в комнату осу.
И, вылетев из яблока, оса
на разные запела голоса,
как будто золотинка жизни той,
где жало неразлучно с красотой.
Но чем больнее времени укус,
тем вечность обольстительней на вкус.
ДВА ВЕЛОСИПЕДА