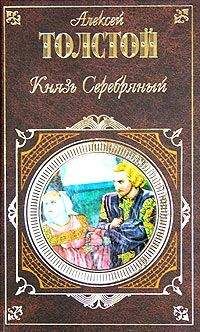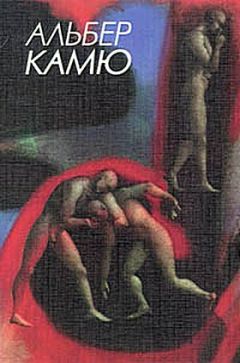Евгений Евтушенко - Окно выходит в белые деревья...
Маше
Не хочется менять постели
той, на которой ты спала,
и проступает еле-еле
на простыне твоя спина.
Твой самолет над Машуком,
а одеяло дышит мятою,
и я целую ямку,
вмятую
вдаль улетевшим локотком.
Постель,
союзница-колдунья
двух тел —
двух слитков полнолунья,
хоть очертания любимой
восстанови
и светом вымой!
Постель,
наш добрый ангел белый,
ты из шуршанья шепот сделай,
дай мне с прозрачного виска
хоть золотинку завитка,
а из морщинок простыни
заколку,
что ли,
протяни.
Любимая,
ты в облаках,
но тень твоя в моих руках.
Твой тапочек скулит в саду,
но на подушке,
как смородинку,
тобой уроненную родинку
я утром все-таки найду.
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ
Маше
Усни,
принцесса на горошине,
в сны очарованно всмотрясь.
А может быть,
была подброшена
жемчужина под твой матрас.
Усни,
принцесса на горошине.
Себе заметить не позволь,
что болью стала так непрошено
воображаемая боль.
Усни,
принцесса на горошине,
не на перинах-облаках,
а на ножах,
на оговорщине,
на раскаленных угольках.
Договоримся по-хорошему —
ты не одна,
а ты со мной.
Усни,
принцесса на горошине,
которой стал весь шар земной.
МОЯ ЭМИГРАЦИЯ
Ко всеобщему изумлению,
в полном разуме —
сам с усам! —
эмигрирую из Америки
в одинцовский универсам.
Я коляску качу с продовольствием,
и, поняв, что я свой человек,
каплет мне на штаны с удовольствием
размораживающийся хек.
Эмигрирую из Америки
без ее чуингама во рту
и в неслыханные истерики,
и в невиданную доброту.
От витрин с несоветским личиком,
где и лобстеры,
и камамбер,
эмигрирую к маминым блинчикам —
сверхоружию СССР.
Эмигрирую на Патриаршие
к водосточной отечной трубе,
где —
ты помнишь, любовь моя старшая? —
ткнулся носом я в губы к тебе.
И под чьи-то усмешки игривые,
под недоброе: «Ну и ну!»
очень правильно эмигрирую
я в неправильнейшую страну.
Мое место —
не в «Уолдорф Астория»,
а за бабушкой,
скрюченной, как
в страшной книге российской истории
вопросительный горестный знак…
ДАВАЙ, МОЙ ВРАГ
Давай, мой враг,
дружить домами
назло врагам,
на радость маме.
У нас есть общие враги, —
ты им —
смотри —
не помоги.
А мамы разные у нас, —
лишь слезы общие из глаз.
И общий есть у них порок —
их вера в праздничный пирог.
Давай, мой враг,
любимый самый,
опять укроемся вдвоем,
как одеялом драным,
драмой,
давай друг друга не убьем.
Давай вернем друг другу пули
из тел,
израненных вконец,
и пули превратим в пилюли
для наших загнанных сердец.
Давай,
как тысячи пельменей,
налепим свеженьких врагов
для тысяч новых примирений,
для тысяч новых пирогов…
ЧТО-ТО
А все-таки что-то есть в нашем народе, —
наверно, немыслимая в переводе
такая прекрасная русская древность —
еще не задушенная задушевность.
А все-таки что-то есть в нашем народе, —
наверно, единственная в природе
такая невыгодная исповедальность,
как будто по собственной воле кандальность.
А все-таки что-то есть в нашем народе —
свобода, припрятанная в несвободе,
крамольные кухоньки, ставшие вечем,
где теплую водку закусывать нечем.
А все-таки что-то есть в нашем народе,
как будто бы тайная карта в колоде,
но как объяснить это самое «что-то»,
не наша — не русская это забота…
НЕТ ЛЕТ
Светлане Харрис, крестной маме моего сына Мити
«Нет
лет…» —
вот что кузнечики стрекочут нам в ответ
на наши страхи постаренья
и пьют росу до исступленья,
вися на стеблях на весу
с алмазинками на носу,
и каждый —
крохотный зелененький поэт.
«Нет
лет…» —
вот что звенит,
как будто пригоршня монет,
в кармане космоса дырявом горсть планет,
вот что гремят, не унывая,
все недобитые трамваи,
вот что ребячий прутик пишет на песке,
вот что, как синяя пружиночка,
чуть-чуть настукивает жилочка
у засыпающей любимой на виске.
Нет
лет.
Мы все,
впадая сдуру в стадность,
себе придумываем старость,
но что за жизнь, когда она — самозапрет?
Копни любого старика
и в нем найдешь озорника,
а женщины немолодые —
все это девочки седые.
Их седина чиста, как яблоневый цвет.
Нет
лет.
Есть только чудные и страшные мгновенья.
Не надо нас делить на поколенья.
Всепоколенийность —
вот гениев секрет.
Уронен Пушкиным дуэльный пистолет,
а дым из дула смерть не выдула
и Пушкина не выдала
не разрешив ни умереть,
ни постареть.
Нет
лет.
А как нам быть,
негениальным,
но все-таки многострадальным,
чтобы из шкафа,
неодет,
с угрюмым грохотом обвальным,
грозя оскалом тривиальным,
не выпал собственный скелет?
Любить.
Быть вечным во мгновении.
Все те, кто любят, —
это гении.
Нет
лет
для всех Ромео и Джульетт.
В любви полмига —
полстолетия.
Полюбите —
не постареете —
вот всех зелененьких кузнечиков совет.
Есть весть,
и не плохая, а благая,
что существует жизнь другая,
но я смеюсь,
предполагая,
что сотня жизней не в другой, а в этой есть,
и можно сотни раз отцвесть
и вновь расцвесть.
Нет
лет.
Не сплю,
хотя давно погас в квартире свет
и лишь наскрипывает дряхлый табурет:
«Нет
лет…
нет
лет…»
МОНОЛОГ ЧУЧЕЛА
Когда мое чучело жгли
милосердные братья-писатели,
слава Богу еще, не пыряя в живот
перочинным ножом,
на меня они зря
полбутылки бензина истратили,
потому что давно
сам собой я сожжен.
Я,
вдыхая дерьмо человечье,
не слишком ароматическое,
охранял в огородишке, рядом с уборной,
редиску и лук.
Я торчал слишком долго,
как чучело романтическое,
мир стараясь обнять неуклюже
распялками рук.
Был набит я соломой.
Я не замечал, как меняется
жизнь вокруг
и как нагличают воробьи.
Я сгорел в наказанье
за быструю воспламеняемость
и в политике,
и в любви.
Уцелел только остов обугленный,
дымом окутанный,
но огонь моих рук
не сумел до конца обломать.
Я в золе от себя самого догорал
и сожженными культями
все хотел обнимать, обнимать, обнимать…
И когда, дожигая меня,
чиркнуть спичкой собратьям приспичило,
я услышал завистливый, злой шепоток палача:
«Ишь чего захотело ты, чучело,
ишь ты, чумичило…
Ты себя возвеличило слишком,
над редькой и репой торча…»
И я вспыхнул последним,
предсмертно синеющим пламенем,
как горящий пожарник,
который себя не сберег от огня.
Все мои ордена,
словно пуговицы, расплавило.
Если СССР погорел,
почему бы не сжечь и меня?
И когда шовинюги
еще доплеснули бензина на чучело
и ноздрями запел сладострастно
генштабовский соловей,
необъятная дворничиха —
женщина чуткая
подметала мой пепел
метлой задушевной своей.
А все дамочки сладенькие
и все мальчики гаденькие
наблюдали за судорогами
последних гримас лица,
и подлили в огонь соратники —
благородные шестидесятники
на прощание
мас-ли-ца.
Что там на пепелище
ты, любимая, ищешь —
может быть, мое сердце,
уцелевшее после всего?
Видно, что-то в нем было,
если сердце любило,
и оно не забыло,
как любили его.
Генштабовский соловей — меткое прозвище Александра Проханова, лившего бензин на мое довольно симпатичное чучело. Прохановскую бы энергию да в мирных целях!