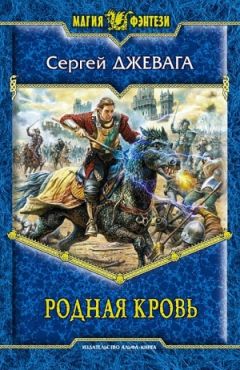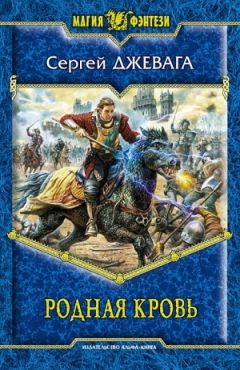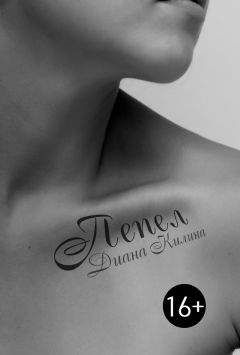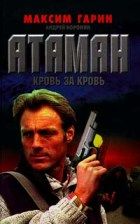Евгений Плужник - Ой упало солнце: Из украинской поэзии 20–30-х годов
СМЕРТЬ ГАМЛЕТА
Я знаю вас, Гамлет, вы рыцарь снобизма,
я знаю двуличный, усталый ваш грим,
все черточки вашего псевдотрагизма,
весь будничный ваш и нехитрый режим:
живете в мансарде,
гуляете в дворике,
а ночью —
над письменным горбясь столом,
на черепе бежевом бедного Йорика
рисуете вензели сонным пером;
И, зная, что люди вокруг не проснутся,
что спит Эльсинорская чудо-земля,
вы пьете,
чтоб с предками соприкоснуться,
капли датского короля.
И больше — ни капельки в вас королевского,
куда там до роскоши, в долг живучи,
и призрак
является вдруг
Достоевского
к вам,
к Гамлету в гости,
пугая в ночи,—
пугать и грозить, звать куда-то далеко,
твердить пресловутое: быть иль не быть?
Но проще себя укусить вам за локоть,
чем той,
Достоевского,
тропкой ступить…
Застыв нерешительно, грезишь, мечтаешь,
с проблемами всеми один на один,
и слышишь откуда-то голос —
товарищ!
И шепот откуда-то вдруг —
господин!
И Гамлет, очнувшись,
пытается браво
обоим откликнуться — так он привык.
Мол, вы посмотрите: имею право,
я, видите ли, двулик.
Не верьте!
Ничто тут нисколько не связано,
лжив Гамлета вечный вопрос,
припрятан трусливо за позой, за фразою
его раздвоенья психоз.
Двулик он?
А может, со ста он личинами?
Блудливы блуждания сломанных душ.
Романтика эта смердит мертвечиною,
туман романтический темен, как тушь.
Все ясно: назваться божественным Янусом
отступник лишь может, от строя отстав,
и манна небесная, манна гуманности
химический свой изменила состав.
Названье другое ей дали учители,
дар неба сегодня звучит
намного торжественней герцогских титулов:
дихлордиетилсульфид.
Обедня земная — надземная манна
безумно пропитана хлоркой насквозь.
О небо!
О Цезарь!
Мессия!
Осанна!
И с черным фашистским крестом бомбовоз.
Романтика новую выбрала хватку,
в мундир нарядилась и весело ржет…
Неужто же, как в нафталине крылатку,
двуликого кто-то
еще бережет?
Кто эту крылатку напялил капризно,
стыдливо не пряча при этом лица?
Европой идет Достоевского призрак,
царапая пальцем двойные сердца.
И жившие там под скорлупкою тонкой
вылазят на свет после родовых мук,
царевич, и гетмана лютый потомок,
и прусского юнкера дохленький внук,
стуча на плацу каблуком о каблук.
Теперь поищите Алеш Карамазовых
в святых легионах, в солдатском строю,
которые масками противогазными
фильтруют старательно душу свою.
Ища себе в жизни пустынной пристанища,
дыша респиратору в зад,
не стал ли и Мышкин, князек христианнейший,—
жестокий германский зольдат?!
Так что же там было, под маскою святенькой?
Пропали в святой суете?
И — вот оно! — выросли хвостики свастики
на старом смиренном кресте.
И, браво взбивая холеные усики,
готова прийти на постой
черная гвардия злых иисусиков,
рать сигуранцы святой.
А Гамлет все мнется.
Он чтит церемонии,
ему их ломать не с руки.
Принц Дании!
Слышите?
Принц Солдафонии
берет вас к себе в денщики!
Вы в башне не спрячетесь, слышите, Гамлет?
Вы, загнанный в угол,—
не ступите вспять.
Не принято это в теперешней драме —
заламывать руки и грустно стенать.
Не верят сегодня в расхожие басни
о башне из белой слоновой кости.
Там снайперы черные прячутся, в башне,
в кого они целятся —
тех не спасти.
Агенты охранки, чистюли-поэтики —
солдатами вражьего стали полка.
Штудируют бойко на курсах эстетики
погромы петлюровцев и Колчака.
Схватите же яростно, словно убийцу,
за горло предательский шепот молитв.
Одной суждено лишь гуманности сбыться —
гуманности ленинской классовых битв.
Меж новым и старым мосты не проложены,
расколот надвое век,
да сгинет он, Гамлет —
принц страха божьего,
чтоб в боях был рожден человек!
На поле сраженья решительно выйдя,
надо твердо там на ноги встать,
и класс научит, как любить и ненавидеть,
научит класс, как взрослым стать.
В шеренгах этих плечи станут круче,
любой, огнем крещенный, рудокоп
там вас в глаза врага смотреть научит
и выстрелить врагу научит в лоб.
ТАНЕЦ
Коль есть гармонь — так пусть гармонь,
пускай она хоть раз,
как добрый молодой огонь,
нас поднимает в пляс.
Мороз тверез, — что льду игра?
А пламя — ну-ка, тронь!
Взлетай и рей — твоя пора,
о молодой огонь!
Мороз тверез, он, словно сон,
сковал реку и лес,
и слышен тихий тонкий звон
берез, ветров, небес.
Но женский плавный хоровод
кружит меж белых рек,
но кажется красавец год
торжественным, как век.
Но вскользь садится на ладонь
кристаллик снеговой —
и вновь вселяется в гармонь
огонь наш молодой.
О мой огонь, я рад, я горд,
что краше нет огня.
Ты никогда, как в этот год,
не обжигал меня.
Столетний дед ведет дитя
в сад голубой зимы.
Впервые, радостно шутя,
бьем лед на звезды мы.
Чтоб лед на искры расколоть,
чтоб быть огню из льда…
Прекрасная людская плоть,
будь счастлива всегда.
Будь счастлива, людей семья —
и ты, и он, и я.
Твоя вокруг тебя земля,
и радость — лишь твоя!
Встает тысячерукий люд
со светлой головой.
Твой труд, твой лёт, твой лад, твой суд,
и праздник — тоже твой!
САДОВНИК
Крик бирюзовых птиц, шакалов детский плач,
в арыке плеск воды, знакомый здесь от века,
чернеет башнею тяжелой карагач,
тень влажную стеля на ложе человека.
Упали липкие шелковицы плоды,
О, дождь медвяный — сладостная прибыль!
Вот тут бы, утомившись, у воды,
на край ковра присесть, сказав «спасибо».
Тут гостя нового встречает щедрый люд,
«салям» произнесет узбек с улыбкой.
Растают ягоды на теплой меди блюд,
и освежит лицо вода струею гибкой.
Поднимется степенный аксакал,
коснется сердца он рукой, встречая,
и чуть горчащего, зеленого вам чая
напиться даст из расписных пиал.
Тут и кетменщики, тут есть и хлопкоробы,
стройны и жилисты — пришли еще в поту…
Как тот садовник, тот мудрец высоколобый —
все влюблены они в земную красоту.
Ведет беседу дед неторопливо,
расспрашивает, что там впереди…
Поклон передает днепровским нивам
и завершает речь строфой из Саади:
«Один наш волосок, как шелковинка, брат,
но, с многими сплетясь, прочней он, чем канат».
Волнуется старик… Язык медвяный предков,
стихами пожелавший вдруг предстать,
так сочно шелестел, как те плоды на ветках,
когда плодам пришла пора спадать.
И вслушивались мы, как в сердца тишь и гладь
слова созревшие влетели искрометно.
Вот так он говорил — от сердца, от души —
и бронзою звенел размер речитатива.
Вошла в колхозный сад спокойно, неспесиво
к нам титаническая речь Фирдоуси.
Стихи поэтов тех, звучавшие, как вызов,
таков был их стальной, непогрешимый лад;
стих Саади, газель влюбленного Гафиза —
они гостями вдруг пришли в колхозный сад.
И, как тепло, как вздох, как бег крови по жилам,
в одно соединяясь, как семья,
в садовнике простом они бессмертно жили,
садами грузными шумя.
И с помощью его, который стар, но вечен,
отвергнув навсегда и споры, и бои,
понятны стали всем все сто земных наречий,
стих Пушкина тут был, Гафиза рубаи,
и мой Шевченко в этот братский вечер
святые вирши прочитал свои.
Леонид Первомайский